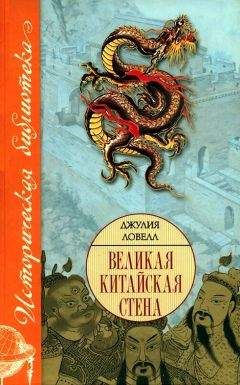Александр Архангельский - Цена отсечения
Он не подал виду, что удивлен и расстроен; сел напротив, вынул списки клиентов, спросил: твоя работа? Если официально, то знать не знаю. Если между нами, то моя, – она ответила беззастенчиво. Это бизнес; тут не до сантиментов. Мелькисаров выложил козырь, который считал роковым: база данных взломана за лето до ее ухода; она еще ложилась с ним, а уже готовила пути отхода. Получил встречный удар: что же вы, Степан Абгарович, такой большой мужчина, а женщин до сих пор не знаете? есть ли в Париже непродажные? – Есть – только они совсем уже дорого стоят.
– Можно я тебя спрошу о личном?
– Спрашивай, но для начала я приму лекарство.
Тома позвонила в медный колокольчик с витиеватой ручкой в виде Чарли Чаплина. Калмычка принесла питье и полотенце. Тамара выпила, мгновенно покрылась обильным потом, полотенце накинула на голову, стала похожа на свою, родную женщину, только что из деревенской бани: напарившись, сидит в предбаннике, пьет с милым мужем смородиновый отвар.
– Если все так конкретно, зачем была нужна прощальная сцена? Со сдавленным голосом, с полуслезой?
– А это была не сцена. Что чувствовала, то и говорила.
– И знала, что после этого кинешь? Что уже – кинула?
– А разве одно с другим хоть как-то связано? Я все ждала: когда ж ты, Мелькисаров, решишься порвать с семьей, уйти ко мне? Я ведь хотела с тобой не спать, а жить, сам знаешь, совсем другое дело. Ждала, ждала; не дождалась. И должна была себя обезопасить. Уж извини. Не любовь, так хотя бы клиентская база. А чувство – оно же никуда не делось. И не делось бы, если бы я не ушла. Потом само собой погасло, испарилось. Может быть, не до конца, но что теперь говорить.
– Не понимаю.
– Все ты понимаешь, Мелькисаров. Ты же сам так живешь.
– Я живу по-другому.
– Ага. И сейчас ты пришел поговорить о чувствах, верно?
– Сейчас я пришел поговорить о делах.
– А что ж тогда про чувства вспоминаешь? Ты давай, не стесняйся, начинай разводить.
– Добро. – Степан Абгарович как следует обозлился; раздражение в таких делах необходимо.
У Тамариной конторы есть клиенты. Но могут появиться и проблемы. Часа через два или три, одновременно в рязанское, смоленское и мытищинское отделения подъедут гости. Есть кой-какие подозрения; документы изымут, контракты сорвут. А завтра в московский офис заглянет пожарный, обнаружит отступление от инструкции одна тысяча сорок восьмого года, пункт тринадцатый, примечание четыре а. И почему-то вдруг не станет договариваться. И опечатает контору. И клиенты скажут ай-ай-ай. Нет, потом, конечно же, все прояснится, станет на свои места, повесите огнетушитель, откроете сквозной проход, согласуете ремонт проводки. Но время – уйдет. И что ты станешь делать?
На это она ничего не ответила. И в бронзовый колокольчик не позвонила. Нажала крупную кнопку в стене; где-то далеко, на втором или третьем этаже, раздался противный звонок. Мелькисаров молча ждал последствий. Через минуту в комнату без стука, как свой, как хозяин, вошел суховатый мужчина. Примерно его ровесник, может быть, постарше. Пегие волосы, короткая стрижка, скучноватое, затертое лицо. Серо-голубые глаза; смотрит исподлобья, с легкой издевкой.
– Мартинсон. Георг Янович. Друг Тамары. Проблемы?
Тамара поморщилась. Сказала хрипло – голос вот-вот сорвется.
– Ладно, Жора, не надо цирка. Мелькисаров умный, он же понимает, что ты уже в теме. Давай, реагируй. Мы ждем.
Степан покрутил головой: где спрятана видеокамера?
– Не ищите, не найдете, мы же не любители. Давайте, Мелькисаров, пойдем в откровенку. Проблемы есть, претензии реальны. Но, как я понял, за вами личный должок перед Томой. Так что давайте считать, что это была цена вопроса. Согласны? Бьем по рукам, и больше ни один клиент от вас ко мне не переходит. Не согласны? Начнется война. Вы, я вижу, ходите под милицейскими; похвально. Навредить они смогут. Но мне все это фиолетово. Как закрыть дыру, я придумаю. Денег потеряю, верно; денег жалко, кто спорит; но счастье не в деньгах, счастье в победе. Я пошлю вам такую обратку, уважаемый Степан Абгарович, что малой кровью не отделаться.
Мартинсон говорил ровно, беззлобно и намеренно тихо, как старший по званию перед подчиненными: чтобы расслышать каждое слово, надо застыть и напрячься. В эпическом неспешном стиле он рассказал про Сергиенкову, каковая подписала бумаги на сделку с физтехом; разработка куплена дешево, перепродана китайцам в восемь раз дороже – «а было это, глубокоуважаемый Степан Абгарович, в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году, в июле месяце; десятого числа совершена покупка, а уже двенадцатого произошла перепродажа».
– И что теперь? Все согласования были получены.
– Не все, не все, товарищ Мелькисаров. У одной почтенной организации имелись возражения; и даже штампик такой был поставлен на странице двадцать пятой, раздел второй: ДСП, секретно. Бумажку подменили? Подменили. А это нанесение ущерба, шпионаж и сговор. Начнем не с вас, зачем? начнем с физтеховцев, они давно и безнадежно обнаглели, пора поставить их на место. Дойдем до Сергиенковой. Через нее получим комп на вас. Тут выемкой уже не пахнет. Тут запах разгрома и срока.
– Слушай, Мартинсон. Ты же знаешь: мы ничего не подменяли. Мы договорились. Кто штамповал бумажку, тот ее и вынул. Сам! без нас. И штамповали только для того, чтобы было о чем договариваться!
Степан начал терять терпение; спокойней, друг, спокойней; наломаешь дров, наделаешь ошибок.
– И вы готовы это доказать?
Доказать Мелькисаров был не готов.
– Ну вот видите, как все сердечно. Доказательств нет, шпионаж налицо, доверенность у Сергиенковой на подпись номер двадцать восемь, виза внизу: Мелькисаров. Кстати, чаю или кофе?
– Кофе.
– Американо? Эспрессо? Турецкий? Латте?
– По-венски, – буркнул Мелькисаров.
– Хорошо, – любезно-иронично согласился Мартинсон.
Калмычка принесла серебряный кофейник, фарфоровый сливочник, уютные венские чашки, ассорти из крохотных пирожных. Таких… умилительных… по-женевски. Посмотреть со стороны – настоящая чеховская сцена: скудный свет из незашторенных окон, на ореховом столе матовое серебро, в белой просторной посуде ароматно чернеет напиток, от пирожных исходит сладостный запах; стоит непроницаемая тишина, слышно, как женские губы пробуют горячий напиток, не обжечься бы.
Допив свой кофе, Тома поставила градусник; она вообще вела себя незастенчиво, по-домашнему, будто бы они уже долгие годы живут вот так, все вместе, втроем; ее не задевает легкая стычка мужчин; они уж как-нибудь решат, как будут действовать в дальнейшем, и не станут ее вовлекать в ненужные подробности. Потрясающая выдержка; фантастическая женщина.
Ни о чем они тогда не договорились, но поняли друг друга хорошо. Поставили осмысленное многоточие, разошлись – как показалось, навсегда. Отток клиентов сразу прекратился, наезжать на Мартинсона он не стал, физтеховское дело не всплывало.
17Через неделю Мелькисаров полетел в Женеву, по делам. Переговоры быстро провалились, на одну неприятность наложилась другая; он взял да и поехал в церковь.
Вообще-то батюшкам он не доверял. Хотя и признавал существование какой-то высшей силы. Называйте ее Богом, ради бога, он не против. Но сила есть, и это медицинский факт. Сила безличная: Бог думает про нас – не по отдельности, а в целом; он перекатывает страны по наклонной, сливает, разливает и химичит. Меняются устои и устройства. Раньше можно было за одну-единственную жизнь прочитать все книжки, написанные до тебя, и невозможно перейти из нищеты в миллионеры; теперь миллионеры размножаются делением, их стало как грязи, а книги, изданные в мире за год, потребуют затвора на сто лет. И все равно дочитать не успеешь. Был Советский Союз. И не стало. Не было мирового гиганта по имени Америка. Гигант появился. Китай прозябал, прозябал на обочине. И вызывающе процвел на пару с Индией. Бразильцы отплясали карнавалы и начали захватывать рынки. Это и есть Провидение. Ты чертишь линии, строишь графики; бац, оно направило народы по кривой, и тебя понесло, понесло; скорость нарастает по экспоненте.
При чем тут батюшки? Зачем они в этом раскладе? Неясно. Но когда тебе нехорошо и даже мерзко, и хочется во что-нибудь поверить, приходится переступать через условности. Надо съездить. Тем более что завтра Пасха.
В городе было два русских храма, старый и новый. Старый, как положено, холеный, белый с полноценной начищенной маковкой; новый – обычная вилла. Крест на крыше провели по документам как громоотвод; колоколенку оформили как зал для музыкальных репетиций. Сначала Мелькисаров посмотрел на фрески, колоритно почерневшие от свечного нагара. Потом походил по отсыревшей крошке возле виллы, понюхал жирные церковные розы в маленьком зимнем саду. И понял, что праздновать будет не с теми, а с этими. Просто так, не по какой-нибудь причине.
За сорок минут до полуночи он – возле церковной ограды. Мелькисарову везет; он успевает протиснуться в проем боковой двери и закрепиться внутри по стойке смирно. Следующим места не хватает; они растекаются по участку, кольцом окружают маленькое здание. Слева жмется старушка – божий одуванчик: серебристо-фиолетовые букли, чистенькое личико послушной дочки первоэмигрантов. Справа маячит суровый гигант, похожий на чекиста из охраны, – весь день на консульских воротах, по выходным на озеро за рыбкой, чтобы экономить, экономить, экономить, и вернуться из загранкомандировки своим ходом, в караване перегонщиков машин.