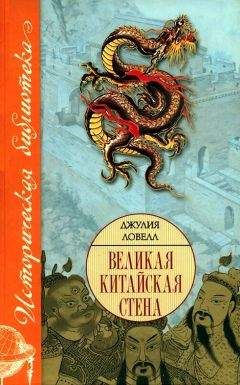Александр Архангельский - Цена отсечения
Мелькисаров сгибается до упора. Священник набрасывает колючую, пропитанную ладаном полосу расшитой ткани. Кладет на затылок тяжелую руку. Чуть заметно треплет и крестит, сухо стукая щепотью по затылку.
– Ты в духовном смысле никогда еще и не жил, а сегодня смерть побеждена…аз же, недостойный иерей, властию убо мне данной, прощаю и очищаю… чадо Стефане… Вылезай, Степан, на свет Божий, целуй крест и Евангелие. Сейчас вот вынесу чашу, пошире откроешь рот, примешь причастие и после приложишься к краю потира. Ну то есть чаши этой самой. И вот тебе маленькая иконка, называется складень, смотри: тут и Господь наш Иисус Христос, и Пресвятая Богородица, и Николай Чудотворец; с праздником, брат; спрячь в карман, не потеряй: у тебя ведь нет, наверняка!
Священник стоит уже на боковой ступени, купольное дно сосуда, похожего то ли на медную вазу, то ли на огромный металлический бокал, нависает над головой Мелькисарова. Он делает все, как ему велено; во рту у него кусочек размокшей мякоти, пропитанной густой жидкостью; Степан Абгарович ждет либо равнодушия, либо чуда; не происходит ни того ни другого. Просто становится легко и беспечно. Сидишь дома, сам себя загоняешь в страх, не включаешь свет, не разогреваешь обед, а тут щелкает замок, звякает ключ: мама пришла!
– Стой, куда помчался? Иди запивочки прими.
К сладкому вину, разогретому в медном чайнике, полагается обильный кусок белого пресного хлеба. И Мелькисаров вынужден признаться сам себе, что никогда ничего вкуснее не пил и не ел. Разве что сибирский черный хлеб с балтийской килькой из консервной банки и булку с пожелтевшим крупным сахаром за чаем, да и то не факт.
На часах полчетвертого; через два часа рассветет. Свежо, сыровато, прохладно. Пора бы уже и домой. Но подходит старушка с фиолетовыми буклями, чуть картавя, по-местному, приглашает разговеться, в домик клира.
– Да я же не заказывал место.
– Тут вам не ресторан, чтобы заказывать. Есть деньги – бросьте на тарелочку при входе, нету – просто заходите. Сегодня не праздновать грех.
Домик клира – еще одна вилла, в глубине участка; тарелочка – хорошенькое блюдо. Мелькисаров бросает сто франков, поверх десяток, двадцаток, монет – и проходит. Свет люстры слепит; столы как положено, ломятся; пылают красные тонкие свечи; в центре – корзина с крашеными яйцами, всех мыслимых и немыслимых цветов, с узорами и переводными иконками – заранее жалко разбивать; над корзиной высятся узкие коричневые куличи, похожие на боярские шапки из фильма про Ивана Грозного, к ним жмутся шатры отформованных пасок; вольно раскинулся желто-серый балык в росе из капелек жира; тихо лежит ветчина с размягченным, пластинчатым салом, сбоку от нее – голландская селедка во всем маслянистом блеске; обособленно держатся сыры – савойский томм, как будто присыпанный хвоей и пеплом, тягучий реблошон, оранжевый монастырский камамбер.
Место на раздаче занимает московская дама в белом платке и с благостным блеском в глазах. Старушка с фиолетовыми буклями хочет по-хозяйски обслужить гостей; вроде бы сама готовила, самой бы и командовать; не тут-то было. Бейсбольное движение бедра, и старушка отлетает в сторону.
Мелькисаров насыщается глазами и как-то сознает, что ничего не хочет. Ни пасочки, ни кулича, ни сыра. Для порядка просит соленый помидор, яйцо и ветчину – и отправляется за рюмкой водки. У стола с напитками – шесть рядов по двенадцать бутылок, с размахом – стоит его священник и смеется:
– А это что за межконтинентальная батарея? До Америки долетит?
Настоятель читает молитву, все ему подпевают, снова кричат «Христос Воскресе!», и начинают пировать. Старушка с буклями ест скромно, застенчиво; кусочки у нее на тарелочке мелкие. Батюшки радостно тяпают промороженной водки, и почему-то кажется, что любят они не водку, а этот бархатистый налет на бутылке. Лабухи тянут вино, и лица у них густо краснеют. Известный московский артист наслаждается правильной русской кухней; только эмиграция ее и сохранила. Из крохотной стеклянной рюмочки пьет зеленоватую хреновуху, из маленькой серебряной чарочки смуглую перцовку, из граненого стакана – настойку на ореховых стенках, крепит! Пробует мелкие грибки, на один укус, рассыпчатую кашу с белой рыбой, кряхтит, раздувает широкие ноздри; есть в нем что-то боярское, древнее, но чуть-чуть напоказ.
Мелькисаров сначала стоял напряженно, боялся: бытовое веселье подпортит дело, распылит счастливую легкость; ничего подобного. Все едят и пьют, болтают и шутят, поповские дети чавкают, охранники отпрыгивают в сторону, закапав жиром новый галстук за пятнадцать франков; суета; а все равно как будто все еще длится то, что началось недавно в церкви, просто по-другому, по-домашнему. И он тоже начинает есть и пить, понемногу, не жадно, но с удовольствием.
Небо в окнах постепенно светлеет; намечается скорый рассвет. Артист отирает губы, прочесывает щеточкой усы, ласково манит чернявого регента, просторно его обнимает; низкорослый регент тонет в его подмышке, раскинутой парашютом; затягивает тихо-тихо, почти неслышно, но как-то так внушительно, что все перестают стучать вилками по тарелкам и разворачиваются в сторону артиста. Он сильно и уверенно ведет своим сиплым, высоким голоском:
Жили двенадцать разбойников…
Бородатый регент гудит:
И Кудеяр-атаман.
Женщины жалобно подстанывают:
Много разбойники пролили
Крови честных христиан…
Душевно, с едва заметной иронией, все вместе завершают:
Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим!
Так в Соловках нам рассказывал инок честной Питирим.
Хор нестройно ведет рассказ о грешном Кудеяре; регент чует музыкально неладное, оглядывается: за его спиной диакон, закрыв глаза, вновь самозабвенно водит ножом из стороны в сторону и энергично сбивает строй. Продолжая дирижировать левой рукой, регент изгибается и правой отнимает нож. Диакон открывает глаза, изображает жестом смущение: прости, брат регент, виноват, больше не буду; вся комната уверенно гремит:
Днём с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил.
Вдруг у разбойника лютого
Совесть Господь пробудил!
Регент погружается в мелодию; нож отобран, строй сбивать вроде бы некому, но слышны подавленные, неразорвавшиеся смешки. Глядит по сторонам: диакон на цыпочках прокрался к столу, вытащил огромную вилку из остатков поросячьего бока, и машет ею, решительно не попадая в такт. Регент грозит диакону кулаком; тем временем баллада подходит к развязке. Кудеяр отправился в монастырь, Богу и людям служить; рассказчик монах Питирим и оказался бывшим Кудеяром.
Прихожане рады, как будто бы узнали об этом только что, и громко совместно итожат; особенно стараются вчерашние бандиты:
Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим!
Так в Соловках нам рассказывал инок честной Питирим.
…В воскресенье Мелькисаров позавтракал затемно: весь день проспал. В сонном теле ломота, сознание заторможено, живет своей отдельной жизнью. Ты вроде внимательно смотришь вокруг – видишь ресторанный зал, приглушенный свет, хорошо одетых людей, – но эти образы тебя не задевают, стекают по краю сознания, как вода по стеклу. До ноздрей доходит приятный теплый запах; секунд через пятнадцать понимаешь: это суп.
То, что было прошлой ночью, кажется далеким, нереальным. Мелькают световые пятна. Московская дама, покрытая белым, фиолетовые букли, пшеничные усы, жаркие свечи, яркая люстра, все подались налево, и направо, и снова сомкнулись; сладко пахнет весенняя ночь; выбегает батюшка: Христос Воскресе; поют.
Во время вечернего завтрака Мелькисаров дал себе честное слово: в воскресенье – снова сходит в церковь. Почитает нужную книжку, подумает о жизни, и всерьез, по-правильному поговорит со священником. Но книжку было взять неоткуда; через неделю он в храм не собрался – откровенно говоря, проспал. Еще через неделю пришлось на денек слетать во Франкфурт; немецкий брокер мог освободить лишь вечер воскресенья, а в будни ну никак. В конце июня он опять попал в Женеву; вдруг вспомнил: надо в церковь! Время есть. И пошел в ресторан.
Месяц-другой свербела противная мысль: да пересиль себя, сходи; постепенно свербеть перестало. Он просто прикрепил над кроватью раскладную иконку, подаренную тогдашним батей. Просыпаясь, глядел на нее и говорил, непонятно кому адресуясь: Христос Воскрес, доброе утро! А ложась: Воистину Воскрес, спокойной ночи!
18Медитация закончилась провалом. В разгар возвышенных переживаний схватило живот. Чувство невесомости исчезло, заныло отлежалое плечо, в кишечнике заворковали газы, в желудке начались рези и колики.
Мелькисаров стряхнул с себя мистический полусон, не открывая глаз, позвал:
– Эужен, срочно веди в сортир, терпеть не могу, обделаюсь!
Молчание.
Все спали. Эужен – на животе, свесил ногу с дивана, как объевшийся бульдог; Юрик кемарил, закинув голову, крупный кадык катался по крошечному, почти лилипутскому горлу, раздавался могучий храп; Кнстянтин по-детски положил кулачок под щеку.