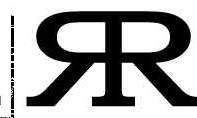Макс Гурин - Новые праздники
С другой же стороны, да хуй с тобой! Живи с кем хочешь, пусть тебя ебет какой-нибудь другой ублюдок. Это ваше дело, любимая моя. Тем боле, может я и не люблю Вас больше! О, как узнать, проверить? Ведь не проверен мир, Данила говорит! Скорей бы ты, Данила, что ль проверил! — Люблю ль я эту девушку ещё иль может быть уже люблю другую?
Но не ебу вообще я никого! Но не ебаться — вопреки Природе! Я чувствую, как с каждым днем хуею, хирею, блядь, и кто тому виной? Все та же Имярек! Испортила мне всю литературу. И в ус не дует. Если дует, то не в мой. А в мой лишь огород кидается камнями, но я ей запретил, отвел удар. Отвел от горемычной дискотеки! О, плюти-плют, мы вроде бы не реки, но кто же мы тогда? Быть может города? Или хуйня из под ногтей? Быть может. Но кому ж тогда те ногти, извините, могут принадлежать? Отцу народов Геродоту, Ивану Грозному? Какой же катапуське? Пиздец котенку, блядь, совсем я охуел…
LXIV
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. У нас с вами тут что? Неужели дела какие? Да на хуй кто из нас кому нужен! Посему мы и сказку разводим, хуем по пизде водим, вовнутрь боимся.
Я поэтому в этой, блядь, главке, буду вполне себе краток.
Февраль. Мы стали репетировать все мои песни (пять старых и хуеву тучу новых) вживую: Мэо на барабанах, Вова на басу, я на клавишах, да Ваня на гитаре. С Мэо ничего не вышло. Зато одновременно с тем, как с ним ничего не вышло, все очень даже удачно вышло у меня с деньгами, и я купил уже столь хорошо знакомый мне «Alesis». Мы репетировали до самого конца марта. Я уже не расчитывал ни на какую Н. Я хотел дуэта двух девочек. А ля группа «Восток», а ля «Ace of base». Мне нравилось, как мы будем смотреться на концертах: двое черненьких (Ваня и Н-2, которую можно было бы не называть цифрой, если бы я хотел позволить себе придать огласке ее ни чем не похожее на Н-1 имя) двое рыженьких (я и некая С., но не та о которой так много говорят большевики, а жена одного ваниного друга) и бас-гитарист. Но ничего не вышло. Хуй с ним совсем. Зато нам было приятно целых два месяца друг с другом чай пить.
В это время я начал работать на «бочковской» студии дежурным и ночным сторожем. Это было сугубо бартерное соглашение в обмен на часы записи. Мне там нравилось.
Апрель. Я оухел от всех. Меня все заебали, а также я заебал сам себя. Я решил, что не имею права нести ответственность за такое количество вовлеченных в проект людей, которые что бы ни говорили, все равно всегда на все надеятся и будут надеяться. Я понял, что я могу взять ответственность максимум только за одного человека, за вокалистку, которой я ещё не знал. Но ответственность брал наперед.
Меня заебало все. Попсовое текстописание ради денег у меня сидело в печенках. Я по-прежнему делал все, что от меня требовали, но меня это несказанно раздражало. В глубине моего авангардного подсознания все-таки очень прочно сидела неприязнь ко всей этой хуйне, которую я хоть и научился делать и слушать, но душа продолжала хотеть чего-то иного. В попсе меня в свое время купила искренность эмоций, которой не было и не могло быть в тех песнях, которые мне давали для заполнения вокальных рыб текстами. Я пытался что-то сделать, но делать того, что я считал нужным и клевым, естественно, было нельзя. Наиболее известной песней с моим текстом стал хит в среде полных безшеих уебищ «Уголек». По этому поводу нас со столь же несчастным, как и я, Игорем Кандуром — автором музыки, позвали на совковую очень представительную передачку «Песня года», где мы чего-то там напиздели про всю хуйню, а потом передача пошла в эфир по первому каналу ровно в международный женский день, и ее увидели как раз все те люди, которым совершенно не следовало бы ее видеть. Они все, разумеется, решили, что у меня все охуительно и я, блядь, устроился в жизни. Хули, по телевизору показали!
Короче говоря, я решил сделать все на «Ensoniq’е», чтобы никого ничем не парить, а потом часть инструментов прописать живьем. Короче сделать так, как делают все попсисты. К тому времени я уже перестал заботиться о стандартах и решил сделать то, чего душа просит. А просила она полной оторванности и полного электронного отвяза в рамках технических возможностей. Я сел трудиться. И опять сделал хуеву тучу аранжировок на многострадальную «Пойду за моря и реки». Как вы понимаете, каждый раз это была совершенно новая музыка, как и на студии у Эли, как и на только что отгремевших зимних репетициях с живым составом.
Честно говоря, я уже ничего не понимал: что я делаю, зачем, на хуй мне это нужно, зачем я вообще живу, зачем с невъебенной аккуратностью «бартерно» дежурю на студии, чего происходит, чем все кончится. Я просто сел и опять решил, что бля буду, все закончится хорошо. Катино предсказание по-прежнему имело надо мной силу.
Я не буду рассказывать, сколько раз закидывало глупые «энсоничьи» мозги, как сгорали все мои, казавшиеся такими удачными очередные аранжировки, как на следующий день я садился и все делал заново, потом опять все сгорало, и я опять делал, совершенно запретив себе задаваться вопросом «зачем». Я обязан был это сделать. Мне это было важно и нужно. А зачем я не знал. Хотя, конечно, каждый раз, когда что-то ломалось или сгорало, я впервую очередь начинал свои уже набившие оскомину диалоги с Богом: почему, мол, он мне так мешает. Что это может значить: то, что он не хочет, чтобы я это сделал, или же то, что он просто хочет меня как следует испытать прежде чем одарить меня своей благодатью. Мне не было понятно. Поэтому я решал, как выгодней мне, что это испытание, и продолжал, извините за выражение, работу.
Давно уже вся моя жизнь превратилась в сплошное делание этих песен. Повторяю, я уже ничего не понимал, кроме того, что я обязан их закончить во что бы то ни стало. Но заниматься ими все время я не мог, потому что в течение светового дня в мои обязанности входило сидеть в комнате отдыха и следить за тем, чтоб всегда был готов чай для какого-нибудь там Ромы Суслова из «Вежливого отказа».
Что-то делать для своих песен, я мог только ночью. Это уже нисколько не грузило меня, ибо время приобрело какие-то совершенно новые формы. Когда ты чего-то ждешь, время всегда превращается в хуй знает что. Я уже привык, что день — это ночь, а ночь — это день. Я уже привык ложиться спать в районе десяти утра, и просыпаться ровнехонько в five’o’clock. Лишь однажды, когда я вышел из студии с полным отсутствием каких бы то ни было мыслей в мудацкой своей голове, меня поразило слишком яркое солнце для того времени, каким я его считал в момент окончания работы над песенками. Также меня поразило количество явно не только что проснувшихся людей, деловито семенящих по улице; да дети, спешащие в школу. Но и к этому я скоро привык.
LXV
Утром того самого знаменательного апрельского дня я работал над текстом для певицы Клементии. Я как всегда еле-еле подтащил себя к письменному столу и магнитофону и принялся заполнять словечками рыбу. Припев у меня уже был готов. Я придумал его по пути от аранжировщика Иванова домой, когда Клементия сказала, что наверно, с той, другой песней, связываться не стоит, а стоит попробовать написать что-нибудь на дуловскую.
И я сел писать попсовый текст на песенку моего друга детства, сочиненную им специально для Клементии за пять с половиной минут своего «драгоценного» времени, о чем он, конечно, не стал говорить заказчикам. Они бы не поняли нашего маленького Моцарта, поскольку привыкли к пафосу наших всеми уважаемых бездарностей, которые, блядь, сидят целыми днями и корпят над полной хуйней.
Я сел писать текст на его песню, и о, ужас! — несмотря на то, что писать мне было легче, чем на все другое говно, принадлежащее, как правило, увы, не его перу, но, честно говоря, я с трудом видел разницу. Увы, опять же, к творчеству это все не имело ни малейшего отношения. Что я могу сделать? Какая песня такой и текст.
Мне было давно уже все по хую, и потому я решил понаписать всяких околоискренних гадостей, так сказать, немного пошалить. Я сочинил стишок про то, как глупая, как моя Имярек, девочка кидает некого мужичка через плечо, шлет его, проще говоря, на самый толстый на земле хуй, говорит ему, что он полное говно, а в бридже, который очень напомнил мне Мусоргского, эта, блядь, лирическая героиня ещё и недовольна, что у него тоже все будет без нее хорошо. Вы представляете, эта баба ебется там направо и налево, а человек, который ее искренне любил, наконец-то с большим трудом находит себе новую любовь, а ее, эту его предыдущую дуру ещё и задевает, что он теперь не ее любит, а другую, добрую и хорошую, разумеется, в отличие от лирической героини Клементии.
И она там поет:
Шаг вправо, шаг влево,
шаг вверх — и прямо в небо.
Как мало нам надо:
день, ночь, душа и тело.
Шаг вправо, шаг влево,
мне небо надоело!
Шаг сделан, ход сделан,
прости, я не хотела…
Короче, все там было оченно молодежно. Я тут же поехал к Иванову, показал ему текст. Ему понравилось. Клементии тоже впоследствие понравилось. И я пошел, блядь, для разнообразия на какой-то там модерновый фестиваль в Консерваторию. Пока я шел туда, я опять нечаянно вынашивал у себя в голове планы некоего большого фестиваля, в котором на равных участвовали бы и так называемые попсисты: Алена Свиридова, Валерий Сюткин, Линда, «Мумий тролль», «Аукцыон» какой-нибудь и прочие там рок-н-рольщики, и академисты из консерваторий и прочих серьезно искусственных заведений. Мне казалось, что это охуительно. Что может быть после десятого такого фестиваля все это бездарное мудачье наконец поймет, что культура едина, и что культура — есть все, что под Богом ходит, а ходит под ним все. Мне очень хотелось привести весь этот мир в соответсвие со своим собственным внутренним миром. Не судите, блядь, строго! Ведь вы поймите, это очень нелегко во все въезжать, все любить, все понимать, но почему-то понимать это все только одному. Ну чем я виноват, если люблю и Шостаковича и группу «Колибри»? Ну чем я виноват, если я действительно считаю искусством и подвальный подростковый дворовый рок и каких-нибудь там невъебенных профессионалов? Чем я виноват? Ничем я не виноват! Я виноват лишь тем, что умен и знаю очень много. И только поэтому я обречен ходить чужим среди молодых литераторов, среди молодых джазмэнов и панков, альтернативщиков и рэйверов, среди каких-нибудь Леш Айги и «Вежливых отказов», среди сестер Зайцевых и Германов Витке. Почему? За что, блядь?! Будь проклята моя детская тяга к так называемой «самой сути», потому что я нашел ее, но нашел ее только я один. Поэтому я всем чужой при том, что они мне все родные. Бля буду, я знаю только одного человека, который более-менее похоже смотрит на этот ебаный мир — это Ваня. Все остальные хотят только развлекаться и не хотят напрягать свои ебаные непонятно зачем данные им мозги и души. Ебать их красным конем, всех тех, кто слабее меня, и кто так хочет поставить меня на колени! Сосите хуй, дамы и господа! Не бывать мне под вами, а вы все подо мной будете, если будете себя вести в том же духе!