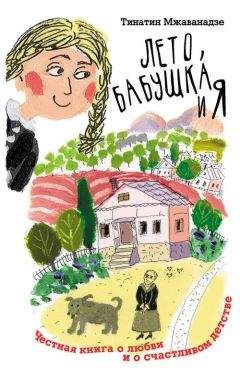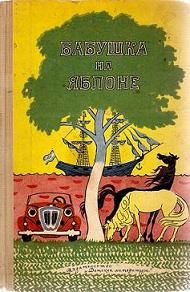Алексей Колышевский - Изгои. Роман о беглых олигархах
И тогда она рассказала ему, как еще тринадцать лет назад начала работать на правительство, была внедрена в одну очень крупную бизнес-структуру, тайно передавала информацию обо всем происходящем внутри компании и вообще работала очень успешно. Что у нее есть офицерское звание и награды, которые хранятся у ее матери в бельевом шкафу, а мать живет где-то под Воронежем. Что после того, как она выполнила свою задачу, хозяина компании засадили в тюрьму, саму компанию растащили по частям, а ее руководство, опасаясь неприятностей, удрало за границу, Вика получила новое задание и последовала за ними. И с Феликсом она познакомилась не просто так, и самым наилучшим образом она знает о поставленной перед Павлом задаче, а знакомство их, конечно же, никакая не случайность. И Павел, судя по выражению его лица, был бы рад считать все ею сказанное не более чем выдумкой, но по некоторым особенным моментам ее рассказа, деталям, которые невозможно знать не посвященному в них человеку, он понял, что все так и есть на самом деле.
– Понимаешь, не мог Феликс сдохнуть от полония. Каждая смерть должна быть уникальна и походить на естественную. Подозреваю, что тебя инструктировали по-другому, но ведь на то они и выдуманы, все эти инструкции, чтобы противоречить одна другой.
* * *Я возвращаю себе право говорить от первого лица. Ведь здесь моя история, не так ли? И заканчивать ее мне, кроме меня некому. Потому, что вполне может так статься, что к концу вокруг меня уже никого не останется…
Вот здесь она права. Лишь в той голове, которая придумывает роль для каждого из нас, все разложено по полочкам или, допустим, по ящичкам архаичной картотеки, где все по алфавиту и записано на картонных прямоугольниках с фотографической карточкой три на четыре в левом нижнем углу. Кто я? Кто мы с ней? Ракушки, которыми играет прибрежная волна? И да и нет. Те, что море выбрасывает на берег, когда-то принадлежали живым моллюскам. А затем их убило время или кто-то сожрал этих фитюлек, думающих, что весь мир – это их раковины. Такие прочные и неприступные на вид, если смотреть изнутри. Мы не можем быть моллюсками, ведь от нас хоть что-то да зависит. Мы сами можем жрать всякую мелюзгу, смачно раскусывая ее смешные и пустячные для наших зубов домики. И пусть не думает этот выдумщик, этот любитель пронумерованных ящичков, что он (или они, что вернее, так как их таких всегда несколько, они боятся персональной ответственности больше всего на свете), так вот, пусть не думают они, что повелевают послушными роботами, закладывая в нас придуманные ими программы. Человек всегда вариативен, а значит, непредсказуем. Тот случай на охоте никто не в состоянии просчитать. Это невозможно подстроить.
– Выходит, ты вроде как мой руководитель? Так, что ли? Вот уж не думал оказаться у бабы на побегушках.
Она покачала головой.
– У тебя не может быть никаких руководителей. Ты сам это прекрасно знаешь. Потому что ты чокнутый. Я думаю, именно поэтому тебя и выбрали. Ты для меня олицетворяешь двуглавого орла. Одна башка никогда не знает, что замышляет другая.
– Непатриотично.
Она отмахнулась:
– Плевала я. Ты сумасшедший. Только без обид, о’кей? В твоем сумасшествии множество позитивных моментов. И так думаю не только я, так думают прежде всего наши с тобой, прости за выражение, седомудые шефы. Вокруг таких, как ты, происходят странные вещи, иногда это приносит пользу делу. Помогает там, где нельзя ничего сделать обычными методами, даже с помощью моего аргумента между ног, – насмешливо добавила она. – Знаешь, почему я дала тебе нож? Я просто уверена была в том, что ты выкрутишься. Пусть я звучу сейчас как фальшивая скрипка, но я говорю совершенно серьезно. Там, где не спасся бы никто другой, ты вышел сухим из воды. Честно говоря, мне до смерти хочется узнать, как тебе это удалось.
– В другой раз, – сказал я, – а то после моего рассказа число сумасшедших в этой комнате удвоится…
Мы вернулись в Лондон спустя неделю после той памятной охоты. К тому времени Вика была в полном порядке, если не считать небольшой трещины в ребре, доставлявшей ей неприятные ощущения при резких движениях. Тогда она морщилась и, в зависимости от окружающей среды, тихо или весьма громко и отчетливо материлась. Ей пришлось побегать от журналистов, которые, впрочем, довольно скоро перестали докучать. Каждый день в этом огромном городе происходило что-то интересное, и экзотическая смерть русского нувориша с сомнительной репутацией через короткое время перестала быть сенсацией и обсуждалась только в обществе иммигрантов, на их многочисленных попойках, которые они упрямо именовали светскими раутами. Очень скоро я оказался на одном из этих раутов в компании Вики, она представила меня Илье. Помню, как тот, прищурившись и цепко меня оглядев, спросил, не встречались ли мы ранее.
– Весьма вероятно, – ничуть не смутившись, ответил я. – Земля не такая уж и большая, особенно если постоянно бываешь в одних и тех же местах.
– А мне кажется, нет, я просто уверен, что встречал вас совсем недавно, – смущенно сказал Илья, – впрочем, я могу ошибаться.
Бедный художник… Ты творишь свои миры, которые кажутся тебе истинной реальностью, и эта лжеистина порой настолько перемешивается с миром твердых вещей, что тебе становится совсем худо, когда ты уже не можешь вспомнить, что же твое, а что нет. Когда-то Илья написал о встрече с русским агентом в Гайд-парке и даже узнал его при настоящей встрече, но быстрее поверил в то, что видит, чем в то, о чем пытался сказать ему внутренний голос, который орал: «Стой! Неужели ты не видишь, кто перед тобой?!» И тем Илья обрек себя на гибель. Я встречался с ним восемь раз и всякий раз ухитрялся накормить его полонием. Я сыпал его в чай и коньяк, в горячие и холодные блюда, а после своей работы причащался уникальным препаратом «Чернобылеонин», замедляющим воздействие радиации на мой организм. Илья все порывался познакомить меня с каким-то режиссером из России, но я всякий раз под различными предлогами уклонялся, говоря о том, что, мол, «рано встречаться с режиссером, нужно сперва закончить историю, и лишний человек на этом этапе лишь помеха».
Наша последняя с ним встреча произошла в Сити, в палате лондонского госпиталя Святого Варфоломея. Илья выглядел ужасно: волосы почти выпали, а те, что еще оставались, приобрели какой-то неестественный фиолетовый оттенок. В такой еще красятся экзальтированные старухи, наполовину выжившие из ума, непременно носящие брюки и очки на длинной серебряной цепочке. Я сразу понял, что дни его сочтены, да и сам он, по всему было видно, смирился со своим скорым уходом. Он с рассеянной улыбкой что-то невпопад говорил мне, и я, придав лицу выражение внимательной заботы, не перебивая, слушал, как он, заговариваясь и путаясь, рассказывал мне последние сцены своего невеселого перформанса. Наконец силы оставили его, пришел медик и настоятельно попросил меня тотчас уйти. Я встал, поправил на плечах белый накрахмаленный халат, который не стал надевать полностью, лишь накинул при входе, как и полагается по больничному уставу. Уже в дверях, после того как мы обменялись последним нашим рукопожатием и я намерен был более не поворачиваться к нему, я услышал, как он окликнул меня по имени. По моему настоящему имени.
– Павел?
К чему играть в прятки с полутрупом? Он откуда-то узнал про меня? Это может представлять опасность…
– Кто тебе… Откуда ты знаешь?
Я перешел на «ты» и на русский так, словно сорвал не одну, пустячную и веселую, но и вторую свою, настоящую, сросшуюся с плотью маску. У меня даже появилось на миг ощущение, что кожа лица как-то неприятно саднит.
– Кто? – Он слабенько, очень невнятно, но все же с оттенком какой-то сдавшейся, бессильной злобы вымученно улыбнулся. У него-то лицо точно того… саднило. Все было покрыто черт знает чем, какой-то коркой. – Да никто. Кто мне может рассказать про тебя, ведь это я тебя придумал.
Бедный сумасшедший. Я поглядел на него с настоящим, ненаигранным сочувствием, и он осекся. Лишь махнул рукой и что-то прошептал, вновь перейдя на английский. Он словно играл роль и не мог выходить за рамки этой роли. Тень бессильной злобы сменило умиротворение, словно Илья подвел итог своему пути и остался им доволен, не вдаваясь в те частности, за которые он сам себя давно простил.
– Не нужно вам возвращаться. Обещайте мне, что все закончится хорошо, так, как я вам рассказал. Обещаете?
Этот вопрос застал меня уже в дверях. Я жаждал вырваться из палаты, где уже и не догорал даже – тлел выживший из ума, отравленный мною человек. Он ничего мне не сделал, я даже не могу испытывать к нему классовой вражды: он вор, кто спорит. Но кто тогда я? Мое бесславное прошлое переросло в точно такое же настоящее, и вряд ли этой совершенной мною в Лондоне казнью я смог хоть немного очиститься от прежней скверны. Нисколько. Лишь новая наросла…