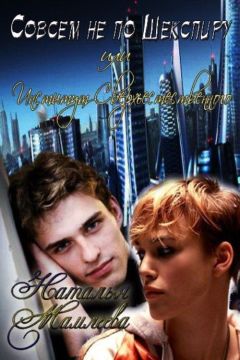Владимир Шаров - Старая девочка
В самом общем виде все, что было связано с Верой, виделось теперь Ерошкину так. Во-первых, для него было очевидно, что пока Сталин жив, пока есть хоть какая-то надежда, что Вера идет именно к нему, она в полной безопасности. Он не допустит, чтобы с ее головы упал и волос. От этой печки и надо плясать. Но, идя назад так, как она идет, строго день в день, Вера дойдет до Сталина только через пятнадцать лет. Пятнадцать долгих лет, все то время, что она провела с Бергом, Сталин будет послушно ждать и ни разу не попытается сделать то же, что с пятилетками: ни разу не провозгласит свой лозунг: “Пятилетку в три года”. Он ни в коем случае не пойдет на это, потому что знает — Веры тогда он лишится окончательно. Она потеряет дорогу, потеряет тот след, который прямиком ведет ее к Сталину, и им уже не встретиться. В общем, до Вериного двадцать третьего года он ничему, что они со Смирновым станут делать, мешать не будет, наоборот, объясняя и себе, и товарищам по партии, что это жизненно необходимо для мировой революции, будет поддерживать любые их действия. Условие одно: Вера и дальше должна иметь возможность идти назад.
То есть его, Ерошкина, планы сделать главную ставку на Льва Берга не надо менять ни на йоту. Сейчас, пока Сталин свято верит, что Вера возвращается именно к нему, он будет относиться к Бергу с любопытством и, пожалуй, даже сочувствием. Теперь предположим, что Сталин прав: Лев Берг терпит неудачу, и посмотрим, что будет тогда дальше. Верин брак с Иосифом Бергом кончится, и тот почти сразу уйдет из ее жизни. Дальше Сталин окажется в окружении двух десятков людей, которые своей любовью будут буквально раздирать Веру на части. Все они ждали ее те же пятнадцать лет, все изнемогли, отсчитывая эти годы день за днем; если Вера жила, то они просто считали каждое утро, моля, чтобы этот день кончился как можно скорее. Для них, как и для Сталина, эти годы были не жизнью, а сроком. И вот срок подходит к концу, годы, которые им казались вечностью, — на исходе. Нервы у всех будут тогда наверняка на пределе. Вряд ли кто-нибудь станет считаться с тем, что он простой зэк, а Сталин — вождь народов. Они не для того ждали, чтобы теперь это помнить. Перед Верой они все равны, и прав тот, кого она выберет, он один.
Сейчас Сталин спокоен и благодушен, потому что не сомневается, что Вера идет именно к нему, но, когда срок приблизится, когда Вера будет уже рядом, я не могу себе представить, чтобы все осталось, как теперь, чтобы выдержка не изменила ни ему, ни другим. Сегодня они не хотят этого помнить, но ведь прежде равенства между ними не было, кого-то из них Вера долго и по-настоящему любила, кем-то просто была увлечена, а кого-то даже не замечала. Они все ее любили, в этой своей любви к ней они и впрямь равны, но она-то любила их не равно. Это неравенство, эта несправедливость их и расколет, словно обыкновенное общество, они расколются на враждебные классы и так же, как классы, по учению Маркса, борются друг с другом не на жизнь, а на смерть, так и они пойдут на все, лишь бы устранить очередного противника.
Сталина тогда наверняка ужаснет количество соперников, претендующих на его Веру, он вообще не сможет не расценить это иначе, как провокацию, как жесточайшее оскорбление. Ведь он ждет ее целых пятнадцать лет, любит и ждет со всей возможной кротостью, а тут врывается эта голодная стая и, забыв, кто он и кто они, забыв вообще обо всем, буквально из его рук пытается Веру вырвать. Он не хочет ни о ком из них ни думать, ни помнить, он хочет быть хорошим, даже очень хорошим, хочет любить одну Веру, помнить о ней одной, а эти люди ему не дают. Стоя вокруг Веры, словно изгородь, взяв ее в кольцо, они будут все время закрывать, заслонять Веру от Сталина, он будет видеть их, а не ее, и главное, он будет их бояться, будет их ревновать и ненавидеть, то есть снова будет плохим, а он ничего, совсем ничего из этого больше не хочет. Он вообще ничего не хочет, ему нужна только Вера.
Ерошкин ясно сознавал, насколько трудно будет Сталину, когда Вера сделается так близко, отдать приказ о ликвидации всех, кто влюблен в нее. Он будет бояться отдать этот приказ, будет метаться и колебаться — разве можно заранее знать, как Вера на все это посмотрит, согласится ли она с тем, что людей, которых она любила, о разлуке с которыми боялась и думать, теперь из-за нее, из-за их любви к ней расстреляют. Сталин пойдет на все, только бы не замешать ее в это дело, он понимает, как трудно ей будет потом принять, что всех их и каждого она могла спасти, одним своим словом могла спасти, но промолчала и тем самым согласилась со Сталиным. Никто не должен будет иметь права сказать, что Сталин делит с ней свой грех, причем даже отдает ей больше, чем берет на себя, потому что он уничтожает соперников, убивает, потеряв от ревности рассудок, а перед ней они виноваты только своей любовью. Сталин знал, что, даже если Вера промолчит, она никогда то, что он вовлек ее в это дело, ему не простит, будет помнить и поминать убитых, и это останется стоять между ними, пока они оба не сойдут в могилу.
Ерошкин сначала, когда все это понял и представил, ужаснулся. Ведь за два месяца допросов он ко многим из этих людей успел привязаться, научился и даже привык им сочувствовать, желать удачи, но почти сразу же он увидел, что не все так плохо. Да, тех, кто любил Веру, уже не спасти, они обречены, зато в этой ситуации есть немалый шанс для Клеймана, которому он после недавнего ночного допроса не желал ничего, кроме добра. Клейман ненавидел Сталина, давно уже шел на все, только бы ему помешать. Без сомнения, узнай про это Сталин, Клейман бы не прожил и дня, а тут вдруг, словно по волшебству, интересы Клеймана и Сталина сходились. Клейман с самого начала был убежден, что люди, влюбленные в Веру, год за годом ее ждущие, это костяк, ядро того народа, который она поведет назад в прошлое. Маня любовью, зовя ею, она поведет за собой не только их, но сделает так, что и они, переняв ее страшный удар, уведут любящих их, то есть в свою очередь завлекут новых, и так эта волна будет шириться и шириться, пока весь народ не откажется от революции и не повернет в проклятое прошлое.
Клейман и не скрывал от Ерошкина, что ему во что бы то ни стало надо убить этих людей; только так, оставив между Верой и народом мертвую зону, изолировав ее, можно было надеяться, что зараза заглохнет сама собой. Но ведь и Сталин со всей возможной страстью будет желать того же, и Ерошкин понимал, что если Клейман, когда придет время, возьмет на себя это дело, не дожидаясь никакого приказа и распоряжения, ликвидирует их, Сталин, покуда не ляжет в гроб, будет помнить о нем с благодарностью.
Ерошкин теперь с радостью видел, что можно, причем довольно легко, совместить не только позиции Сталина и Клеймана, тем самым спася Клейману жизнь, но и сделать так, чтобы не пострадали их со Смирновым планы и даже интересы тех, кто любил Веру, пока были защищены — он по-прежнему был убежден, что их скорая гибель не принесет ничего, кроме вреда. То есть вдруг выяснилось, что можно запрячь в одну упряжку всех их, от Сталина до того узбека, от которого Вера сбежала из Оренбурга и которого позже не вспоминала иначе как с ужасом; можно в одно стадо свести волков и овец — и ничего: все будут живы, все тихо и мирно еще долго будут пастись рядом. С этим он и поехал на четвертый день в Москву получить от Смирнова верховную санкцию.
В поезде, проигрывая про себя разные варианты предстоящего разговора, он в конце концов решил, что, похоже, пришло время и ему начать играть в этом деле свою особую партию. Так будет лучше для всех. Участок, который он пока себе выделил, был на редкость невелик, но Ерошкин прекрасно понимал, что дальше, если его не отстранят от расследования, он будет расти и расти, потому что только он всем им, всем, кто так или иначе связан с Верой, желает добра, главное, равно желает, сами же они без него сразу перегрызутся и друг дружку погубят.
Столь четкое понимание, что он должен действовать самостоятельно, ни на кого никак не оглядываясь, что он один может вести это дело — остальные его тут же развалят, за двенадцать лет службы в НКВД было у него впервые. Раньше он всегда тушевался, был доволен тем, что имел, и о первых ролях даже не мечтал. Ему и в голову не могло прийти скрыть от начальства малейшую деталь дела, которое он расследовал, теперь же он спокойно понимал, что в Москве ни при каких обстоятельствах не скажет Смирнову то, что узнал о Сталине от Клеймана и Ежова, так же как самому Клейману никогда даже словом не намекнет, что если он расправится с людьми Веры, Сталин ему будет только благодарен.
Тот план, который Ерошкин, прибыв утром следующего дня в Москву, доложил Смирнову, был чрезвычайно прост и по внешности почти не отличался от того, о чем они договорились еще перед отъездом Ерошкина в Ярославль. Это было ему на руку, потому что он очень и очень опасался, что Смирнов с его знаменитой на всю ЧК интуицией станет задавать лишние вопросы и так, ниточка за ниточкой, вытянет из него все, что произошло в Ярославле. Ерошкин прекрасно понимал, что чем меньше интересного, вообще, чем меньше он расскажет Смирнову о Ярославле, тем для него будет безопаснее, и справился он с этой задачей неплохо. Они довольно долго проговорили о ярославских и московских ресторанах; в отличие от Ерошкина Смирнов знал в этом толк, и когда Ерошкин принялся петь гимн запеченной в грибах осетрине, которую ему подали в ярославской “Волге”, Смирнов не только одобрил его выбор, но еще чуть ли не час читал ему лекцию о том, как готовят осетрину на Нижней Волге, в Астрахани. В прошлую осень он провел там два месяца, помогая местному НКВД расследовать дело о вредительстве в рыбной промышленности.