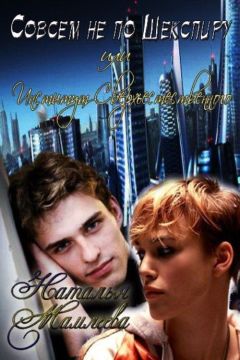Владимир Шаров - Старая девочка
Это был довольно неожиданный финал, потому что недавно Смирнов раз за разом ему повторял, что всем делом Веры Ерошкин будет ведать целиком и полностью, он, Смирнов, ни во что вмешиваться не станет, тем не менее Ерошкин почти не огорчился, он и сам уже видел, что одновременно вести Берга и Клеймана ему не по силам. Дальше Смирнов не отпускал его еще целый час, но ничего существенного не сказал. Как и просил Смирнов, Ерошкин все для этой мены подготовил еще в четверг, но в тот же четверг, поздно вечером, Смирнов насчет лагеря дал отбой. Позвонил из Москвы и коротко сказал, что Берга он Ерошкину уже выслал; с тем же конвоем Клеймана надо отправить ему, Смирнову, в Москву; со спецобъектом же решили пока отложить.
Следующие три года у Ерошкина частью ушли на Берга, частью на текущие ярославские дела, и он чувствовал, что Смирнова это вполне устраивает. Смирнов, похоже, хотел, чтобы Ерошкин не только не имел никакого влияния на Клеймана, но даже не знал, во всяком случае, в деталях, что с ним происходит. По-прежнему он сидит на Лубянке или все-таки его наконец сделали начальником лагеря. Почему так было — то ли Смирнов боялся, что в случае успеха все лавры достанутся Ерошкину, то ли он считал, что Ерошкин может помешать Клейману, а кто из них в итоге окажется прав, сказать сейчас невозможно, — Ерошкин не понял, просто, несколько раз спросив, как там у Клеймана, и не услышав в ответ ничего вразумительного, он догадался, что задавать этот вопрос больше не нужно. Все, что Смирнов захочет, он скажет сам. Смирился он с этим легко, благо в его ярославские дела по-прежнему никто не лез.
Подобное разделение продолжалось почти до лета 1942 года, а потом — было это в последних числах мая — Смирнов совершенно неожиданно позвонил ему в Ярославль и сказал, что три дня назад Клейман в своем лагере под Воркутой скончался от пневмонии, и на самом верху принято решение Верино дело снова объединить под руководством Ерошкина. Еще Смирнов сказал, что воркутинский лагерь закрывается и весь тамошний контингент в течение месяца будет переведен в Ярославль. Ерошкину надо быть к этому готовым. Впрочем, добавил Смирнов, похоже, проблема не столь уж и велика: права у Ерошкина теперь неограниченные, так что он может Вериных людей хочет — расстрелять, хочет — оставить в тюрьме, а нет — просто распустить по домам. Все это в его воле. Через день Смирнов снова позвонил, чтобы сообщить, что вместе с зэками из Воркуты к Ерошкину едет и весь лагерный архив, то есть все, что Клейман или сделал, или собирался сделать. Судя по тем донесениям, которые приходили от Клеймана в Москву, он, Смирнов, уверен, что для Ерошкина это будет небесполезно. Впрочем, вряд ли это дубляж донесений; из того, что о покойном известно, ясно, что он и под Воркутой играл свою партию. В общем, пускай Ерошкин сравнит и разберется, что к чему.
К этому заданию Ерошкин отнесся без энтузиазма, не обрадовало его и то, что Верины люди теперь едут в Ярославль, но потом, еще пару раз переговорив со Смирновым, он понял, что никто и вправду ничего нового на него не взваливает: хочет — может читать то, что осталось от Клеймана, хочет — нет, сейчас все заняты войной и начальству не до Веры. После этого Ерошкин успокоился и уже читал клеймановские бумаги не торопясь. Заняли они у него около года, но в итоге дело Веры снова в нем сошлось и соединилось. Конечно, из того, что Клейман посылал в Москву, и того, что записывал для себя и оставлял в лагере, выстроить полную картину было трудно, и все же через год Ерошкин, как они там жили, представлял неплохо, и это даже без рассказов зэков.
Тяжелее всего ему было восстановить первые три месяца жизни Воркутинского лагеря, но и здесь он в конце концов разобрался. По-видимому, вначале, когда, едва выйдя на свободу, он был назначен начальником лагеря, получил право распоряжаться жизнью и смертью Вериных людей, Клейман решил, что фортуна наконец-то повернулась в его сторону и меньше чем в полгода никого из зэков в живых уже не останется. Путь от арестованного, ожидающего расстрела, до начальника лагеря, который Клейман проделал в одну неделю, не мог не показаться ему чудом. Еще большим чудом было другое: те, кто должен был его расстрелять, ни с того ни с сего передали ему в руки всех Вериных людей, всех, кого они несколько лет искали от Владивостока до Каира и Стамбула и, главное, нашли. И вот все они были теперь в его, Клеймана, руках, и он мог сделать с ними что захочет.
Слова Смирнова о том, что за жизнь каждого зэка Клейман отвечает головой, он никогда всерьез не принимал. Голая тундра под Воркутой — не курорт, это во-первых, а во-вторых, если их жизнь и впрямь кому-то нужна, то только идиот послал бы сторожем его, Клеймана. То есть Клейман с самого начала не сомневался, что, когда всех до одного он сведет зэков в могилу, и Смирнов, и его начальники примут такой результат как должное, даже не обязательно этим воспользуются, чтобы его расстрелять. Коли цель в этом, ничего не стоит убить его раньше и куда с меньшими хлопотами. Все это понимая, он тем не менее решил не спешить и действовать по возможности аккуратно.
О том, что он начальник лагеря, Клейман узнал из приказа, зачитанного ему лично двадцать первого мая сорок первого года московским энкаведешником, сопровождавшим эшелон с зэками. Дело происходило на мху, ровнехонько посередине болота: здесь рельсы обрывались, и здесь же их всех высадили из вагонов, а потом они еще сутки — зэки и вохровцы на пару — выгружали продукты, медикаменты, палатки, прочую амуницию, которую им выдали в качестве приданого. На прощание, когда паровоз уже развел пары и вот-вот готов был отправиться назад, энкаведешник сказал Клейману, что здесь в округе нигде хорошего леса для бараков нет, чересчур холодно, ближайший лесоповал в ста пятидесяти километрах на юг, там тоже есть железнодорожная ветка, и как только он по рации даст им знать, в течение недели бревна ему привезут. Впрочем, добавил он, с этим лучше бы поспешать: шпалы положены прямо на мерзлоту, установится жара — лед начнет подтаивать, тяжелые вагоны разнесут тогда путь в клочья.
Для Клеймана это был во всех смыслах хороший совет, и он сразу же решил, что до конца июля лес ни в коем случае заказывать не будет, если энкаведешник прав, дело к зиме разрешится само собой. Этот свой план Клейман выдержал достаточно строго, так что в августе, когда шедший к ним состав с лесом, не дойдя до лагеря сорок километров, повернул обратно, они и вовсе оказались отрезаны от мира. Если не считать рации, только он, вохровцы да зэки. Правда, как по некоторым намекам из клеймановских донесений понял Ерошкин, настроение ярославца к этому времени начало меняться. Дело в том, что, пока железная дорога еще действовала, с ближайшей станции раз в три дня в лагерь ходила дрезина привезти и забрать почту. Первые несколько раз она уезжала почти что ни с чем, но дальше зэки валом начали писать друг на друга доносы. Все они были адресованы на самый верх, но раньше естественным образом должны были пройти через руки Клеймана. Целый месяц он прочитывал их один за другим, в конце же концов, убедившись, что скомпрометировать его они не могут, запросил Смирнова, что ему с этим добром делать. Тот велел отправлять в Москву, и с тех пор дрезина из лагеря уходила груженной доверху.
Писали зэки исключительно друг на друга. Это было так странно — ни о лагере, ни о нем, Клеймане, вообще ни о чем из той жизни, которой они жили, в доносах не было ни слова, — что Клейман долго был уверен, что они просто придуриваются. Или сговорились выждать, пока ему надоест и он, не читая, станет отправлять их доносы прямо в Москву. Пытаясь добиться правды, он даже устроил им повальный допрос, но зэки, когда он их об этом спрашивал, как будто его не понимали, и в конце концов Клейман отступил. Он тогда вдруг сообразил, что все это может быть ему очень и очень полезно. По-прежнему убежденный, что политика Смирнова и Ерошкина намеренно предательская, что путь, избранный ими, ведет страну к катастрофе, Клейман неожиданно нашел, как ее торпедировать, причем раз и навсегда.
Почему и ради чего зэки пишут доносы, ему было понятно уже и раньше, но что из них можно извлечь, он придумал только теперь. Несколько лет назад, когда все они оказались в Москве и по очереди, один за другим, проходили через руки Ерошкина, тот сумел им с дьявольской хитростью внушить совершенно дикое представление о них самих и об их месте в этом мире. На первом же допросе они узнавали от Ерошкина, что, чтобы найти и привезти каждого из них на Лубянку, чтобы выполнить это задание в кратчайший срок, были мобилизованы лучшие оперативники НКВД. И эти оперативники не просто просеяли всю страну от Кремля до последнего Колымского лагеря, но некоторых из них нашли, а потом выкрали, похитили из черт знает каких стран, то есть пошли на все, лишь бы доставить их в Москву живыми. Кроме этого, Ерошкин сумел им внушить, каждому из них сумел внушить, что Вера идет, возвращается именно к нему, к нему одному. Что она повернула, стала уходить из этой жизни, бросила, разорвала все связи, все отношения, пошла даже на то, чтобы поломать существующий в этом мире порядок вещей лишь для того, чтобы разыскать человека, перед ним сидящего. Но и это еще не все. Каждый из подследственных услышал от Ерошкина, что на него, на него одного — вся надежда; все рухнет, все пойдет прахом — и родина, и революция, и социализм — если, когда Вера к нему придет, он не сумеет убедить ее, что все — дальше назад идти не надо. В общем, он им обещал и то, что они спасут мир, и вожделенную Веру.