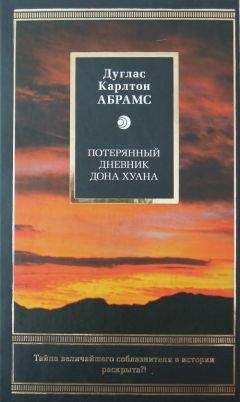Андрей Иванов - Копенгага
Отец говорил, что сам часами изучает портреты тех, кто в розыске, и меня поучал запоминать лица, тренировать память, даже приносил портреты разыскиваемых, показывал и заставлял вспомнить, не видел ли я кого-то и так далее… Иногда он издевался над матерью; он говорил ей, что засадит ее брата в тюрьму, ее лишит материнства, а меня отправит в детдом. Он, бывало, придет и выльет суп в унитаз — вари новый! Сварит — снова выльет со словами «будешь варить, пока не научишься»; или заставлял мыть полы: не успеет высохнуть — снова мой, пока не научишься! И пьян не был, был просто не в духе. Порой забавлялся, как ребенок; у него было спрятано не только оружие, но и всякие петарды, в том числе трубчатый артиллерийский порох; мы его в фольгу заворачивали, заряжали в тонкую длинную трубку, как в миномет, и поджигали — заряд с шипением вылетал и летел, сгорая на лету, фольга сыпалась, отпадая красивыми порхающими, завивающимися огоньками, в сумерках это было красиво.
Когда я подрос и, как дядя, стал отращивать волосы, даже заикнулся о джинсах, отец сквозь зубы сказал:
— Ты что, в американского ублюдка превращаешься! Ты что, советский гражданин… — и так далее…
Годы спустя, когда «все голосовали за Когана» и люди выходили с плакатами, писали на стенах всякое, разбрасывали по подъездам листовки, призывали голосовать, я просто сказал за обедом, что вообще ни за кого голосовать не буду. И отец бросил о пол кружку и зарычал:
— Не будь дураком! иди и голосуй за Вейдеманна! за эстонца голосуй! и голосуй за революцию! за их гребаную свободу иди голосуй! Может, потом, и правда, гражданство получишь!
А я, дурак, не послушал, упрямый глупец, а ведь он прав был, хоть ничего не понимал, а выходит он больше меня понимал. Если б я пошел и проголосовал за свободу — революцию — триколор, катался бы я сейчас без виз… А так приходится сидеть нелегал нелегалом, курить в печное отверстие и с этими хиппи каждую крону выкраивать на бутылку.
И все-таки он был сумасшедшим, настоящим психом… Это безумие выражалось по-разному. Оно прорывалось, вспыхивая в его глазах. И он брал ласты, баллоны, подводное ружье и уходил в море. Он рассказывал, как неожиданно зависал над бездной, где нет дна, — только чернота, только бездна, и трудно удержаться, чтоб не погрузиться в этот манящий душу мрак, и он погружался, до тех пор, пока над ним и под ним не было ничего, ничего кроме мрака.
— И тогда, — говорил он, — не знаешь, в каком направлении надо плыть, чтобы выбраться, куда ни плывешь, везде одно и то же — чернота…
Думаю, нет: я знаю, просто уверен, что унаследовал это его безумие, я в меньшей степени, но тоже безумен. Меня распирает та же неистовая, бьющая ключом энергия, но я не рискую гонять на машинах; я не переношу высоту, хотя влезаю на замок по шаткой лесенке, замазываю трещины, и тогда мне кажется, что я хоть на сколько-то приблизился к нему. Я не хочу погружаться, но ведь я закончил водолазные курсы и все-таки погружался.
Заслышал тогда шаги на веранде. Легкие веселые шаги. Дангуоле возвращалась из Коммюнхуса. Она ничего не знала и не должна была знать о моем отце. Я должен улыбнуться и скрыть мою грусть. Нелегал в розыске не имеет права рисковать свободой ради кратковременной слабости. Я не мог ей себя приоткрыть; сколько бы она ни говорила, что любит меня; сколько бы я ни верил ей, я не имел права ради минутного порыва себя сдать. Потому что она — часть этого мира. Открыл рот, шепнул, и мир тебя услышал. Так можно накликать беду. Поэтому ничего не сказал. Она так и не узнала о его смерти. Я не мог сказать, никому не мог сказать, что мой отец умер. Я узнал о его смерти, а вокруг все осталось по-прежнему. Так что умер он во мне для всех, окружавших меня, совершенно незаметно. Будто и не умер. И не сумев его как следует похоронить да помянуть, я ношу его в себе; поэтому для меня он все еще каким-то образом жив. Он умер для меня окончательно только после моего возвращения. Пять лет спустя.
Нас навестила бабушка. Мать меня готовила к этой встрече, как ребенка, наряжала, и все пыталась подсунуть те одежды, которые я носил до того, как уехал. Видимо, чтоб одомашнить; я все казался ей чужим. Мне было неловко. Бабушка сидела на моей кушетке; она была полуслепа; сидела и плакала. Рассказывала, как он там жил, на болотах, после того как мы поругались. Меня это резануло. Ведь я его практически выгнал. Так выглядело, будто я его выгнал. То есть он сам перебрался к болотам за город и поселился там. Еще до той ссоры. Он туда перебирался годами. То из подвала свои инструменты перевез. Потом машину в гараж. Потом свои чеканки, сабли, ружья. Поэтому было естественно, что он там осел. Но последним толчком стала наша ссора. Однажды приперся пьяный, стал ломиться. Я был в подвале, перебирал картошку. Услышал его рев. Поднимаюсь. Стоит. Качается.
— Твоя мать меня не пускает, — говорит.
— Правильно, — говорю, — делает, что не пускает. Ты — пьяный.
Он хитро так:
— Я принес картошку, капусту, помидоры, тут бабушка передала.
Я говорю:
— Сам жри свои помидоры.
Что с ним стало тогда! Он задергался. Побежал мешковато вниз. Стал судорожно распахивать окно подъезда. Будто собираясь выброситься. Вытряхнул сумку. И все приговаривал:
— Так я и передам бабушке, так и передам. Вот так и передам…
Бабушка долго ходила и все мирила нас, мирила… Я один раз съездил, повидался. Разговор получился ни о чем. Это была наша последняя встреча. Я его запомнил с большим бронзовым пузом, с тяжелым ключом от гаража на груди, в закатанных по колено военных штанах и сандалиях.
Бабушка рассказала, что он все бизнес какой-то начинал. Ухмыльнулась даже тихонько. Таскал со свалки двери машин, правил вмятины и толкал на рынке. Потом вулканизация, покраска, ремонт. Затем купил какой-то старый ЗИЛ, чтобы на нем перевозить что-то. Какой-то металл. У него было много идей. Как всегда. Жил он с какой-то бабой и двумя ее детьми. Жили они на его ментовскую пенсию. Этого, конечно, не хватало. Он пил все больше и больше. Работать ему не удавалось, его отовсюду гнали за пьянку. Сказала, что они порой так нуждались, что одной зимой даже полом топили. В это было трудно поверить. Жить посреди леса и топить полом?! Бабушка говорила, что отец докатился до самого предела. Сам он ей это объяснил тем, что не запасся дровами потому, что был занят отопительной газовой системой. Он провел газ в дом. Он ей даже демонстрировал. В огороде он завалил старый колодец гнилыми листьями, провел от них трубу в дом, и гниение давало те самые испарения, натуральный газ, которым он собирался топить. И даже топил! Он подключил плиту к этой трубе. У него все было на высшем уровне. Даже тумблер был. Трубки, перетянутые металлическими жгутиками. Газ, шутка ли! Я представляю, с какой важностью он этим занимался. Скорей всего, чувство важности усиливалось сознанием значимости дела и той халявы, которой он собирался пользоваться. Из дерьма качать газ, отапливать им целый дом, да еще и еду готовить! Можно нарыть побольше колодцев, весь огород завалить дерьмом, протянуть трубы к соседним домам, взимать небольшую плату и в ус не дуть. Но зимой ударили морозы, листья замерзли, топить стало невозможно. Пришлось рубить пол. Меня бросило в холодный пот от этой истории.
Дальше — хуже. Он стал пить всякую дрянь, спирт, брагу, он спивался, спивался и спился окончательно. Бабка его у себя держала. Приходил к ней больной, как кот изможденный. Она его отмывала, поила супом. Он трясся, блевал, заваливался в койку, а спать не мог, его трясло. Они с дедом ему бальзам Биттнера давали по ложке, тогда его как-то отпускало. Недели две-три держался, потом срывался, уходил… И начинал все по новой. К тому времени он потерял всякую работу; кое-как тянули лямку вчетвером, он, его баба, ее дети. Бабушка сказала, что под конец было совсем плохо, так плохо, слов нет; какие-то бомжи со свалки у него там жили, какая-то гоп-компания, все ходили, побирались, воровали, лазили по огородам — жуть! Он приходил к ней реже и реже; пытался завязать, спрятаться, залечь у нее. Просил, чтоб не отпускала его; просил, чтобы привязала. Это уже было безумием. Начинал метаться, спрашивать, где я, хотел со мной повидаться напоследок. Она говорила, что я уехал в Россию, на родину дедушки, учить детей русскому языку и литературе, плела, что на ум приходило, лишь бы он успокоился… Он уходил.
Последний раз он как-то совсем успокоился, ушел, потом нашли его: по пояс голый, с ключом от гаража на груди, с пустой бутылкой водки, в сбитых сандалиях, он лежал под яблоней, которую только что покрасил, в том саду, где когда-то в коляске спал я.
4Никогда не знаешь, в какое время суток выходишь. Окна нет, часов нет — прикидываешь на глазок. По котлу определяешь. Каждый час просыпаешься. Стаж — семь лет сторожем в двух местах. Забыл, что такое сон без задних ног. Да и травка уже не держит. А без нее вообще сна нет. Потом с этим индусом связался. Еще тот перекати-поле. С ним совмещение ночи и дня завершилось. Теперь выйдешь ночью — изумляешься. Выйдешь днем — опять изумляешься. Все одно. Дождь. Сумрак. Тоска до костей проедает. По-быстрому до сарая и обратно. Только елки меня и видели. Раз в неделю. Зола теперь единственный повод выйти из замка. До этого целый месяц еще два дома отапливал. Кормил котов и чертову черепашку. Неблагодарная тварь.