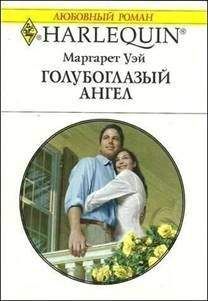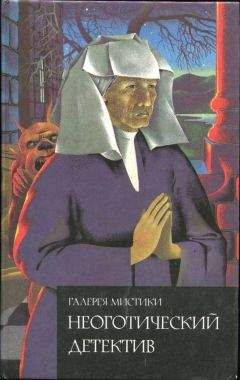Маргарет Лоренс - Каменный ангел
— Что у тебя стряслось?
— В туалет хочу, — говорит она. — Позвала медсестру, а она не слышит.
— А лампочку включила? У тебя над головой кнопка. Она как раз для того, чтобы позвать медсестру.
— Не достану. Не поднимусь сама. Мне больно.
— Тогда я нажму кнопку у себя.
— О, точно. Вот спасибо.
Загорается бледненький огонек. Никто не идет.
— Наверное, работы много, — говорю я, чтобы ее успокоить. — Иногда приходится подождать.
— А если совсем невтерпеж и я их не дождусь? — Она смеется — вымученно, беззвучно, и мне передаются ее страдания и страх опозориться. Для нее это конец света.
— Не бери в голову, — отвечаю я. — Это их забота.
— Их-то она, может, и их, — говорит она. — Но мне от этого не легче…
— Чертова сестра, — с раздражением бросаю я, жалея девочку и нисколько не сочувствуя вечно занятому персоналу. — Где ее носит?
Девочка снова плачет.
— Не могу больше. И бок болит невозможно…
Она еще никогда не была во власти своих внутренних органов, а их милость, как известно, сомнительна. Боль и унижение были для нее просто словами. Я вдруг возмущена до глубины души этой несправедливостью. Рано еще ей открывать для себя такое.
— Я сама принесу тебе судно.
— Не надо… — встревоженно отвечает она. — Я потерплю. Не надо, миссис Шипли.
— Принесу и все тут. Не могу больше на это смотреть. Их в туалете хранят, а он совсем рядом. В двух шагах отсюда.
— Думаете, сможете?
— Обязательно. Подожди меня. Сейчас принесу, вот увидишь.
Я с трудом поднимаюсь. Свесив ноги с кровати, я чувствую судороги в одной ступне и на мгновение теряюсь, не зная, что делать. Потом хватаюсь за край койки, ступаю на ледяной пол, разминаю ногу — и вот уже я стою, огромная, тяжелая, с распущенными длинными волосами, которые скользят по моим голым продрогшим плечам, как змеи на голове Горгоны. Помятая, перекрученная атласная сорочка опутывает ноги и мешает ими двигать. Меня качает. Мышцы не ладят между собой, то напрягаясь, то дергаясь, где не надо. Мне холодно. Кажется, сегодня холодно, как никогда. Подожду немного. Ну вот. Уже лучше. Пара шагов, всего пара шагов.
Потихоньку передвигая ноги, я думаю — как это странно, что ноги отказываются мне повиноваться и ходить как раньше. Одна, потом другая. Еще чуть-чуть, Агарь. Давай.
Есть. Я дошла до туалета и завладела блестящим стальным Граалем. Ничего сложного по большому счету. Но обратный путь труднее. Я теряю равновесие, накреняюсь и чуть не опрокидываюсь. Я пытаюсь за что-то ухватиться, рука натыкается на подоконник. Он возвращает мне устойчивость. Я иду дальше.
— Все о’кей, миссис Шипли?
— Да-да, все… о’кей.
Мне самой смешно. Ни разу в жизни не произнесла этого слова. О'кей, класс — не терплю этого просторечия. Так я поучала Джона. Эти словечки выдают человека.
Внезапно я останавливаюсь перевести дух — такое чувство, что дышать я разучилась. Ребра горят от боли. Вскоре боль спадает, но меня кружит и шатает от слабости. Все равно я дойду до цели. Тише едешь — дальше будешь. Вперед.
Я пришла. Я это сделала. Я знала, что смогу. Одно неясно: для нее я это сделала или больше для себя. Не важно. Я здесь, и я принесла, что ей нужно.
— Вот спасибо, — говорит она. — Радость-то какая…
И тут решительно загорается верхний свет, и мы видим в дверном проеме медсестру, пухлую, немолодую, с глазами, полными ужаса.
— Миссис Шипли! Вы почему не в кровати? Вам разве не надевали сегодня жилет?
— Забыли, — отвечаю я, — к счастью для нас.
— О Господи, — вздыхает сестра. — А ну как упали бы?
— И что с того? — с вызовом говорю я. — Что с того, скажите на милость?
Она не отвечает. Ведет меня в койку. Управившись с нами обеими, она уходит, оставляя нас с девочкой одних. В темноте я слышу какие-то звуки. Девочка смеется.
— Миссис Шипли…
— Да?
Она подавляет смех, но тут же снова заливается.
— Ой, не могу. Мне нельзя смеяться. Швы разойдутся. Но видок у нее был, скажите, а?
Я и сама фыркаю от смеха, вспоминая тот видок.
— Да уж, удивилась она, мягко говоря, увидав меня на ногах. Чуть сознание не потеряла.
Теперь у меня приступ смеха. Не могу остановиться. С ума сойти. Наверное, я и правда сошла с ума. Досмеюсь до какой-нибудь травмы.
— Ой… ой… — булькает девочка. — Она на вас смотрела, как на преступницу.
— Точно, именно так она на меня и смотрела. Бедняга. Вот уж в самом деле бедняга. Напугали мы ее.
— Да уж. Напугали не на шутку.
Нам больно, но мы все равно смеемся, сопим и хрюкаем. А потом мирно засыпаем.
Прошло несколько дней с тех пор, как девочку прооперировали. Она уже на ногах и даже ходит почти прямо, не сгибаясь пополам и не хватаясь за бок. Она часто подходит к моей кровати — подает воду или сдвигает занавески, если я хочу подремать. Она очень стройна, юна и стройна, этакое молодое деревце. У нее изысканные черты лица. На ней голубой парчовый халат, из отцовского магазина, как она сказала. Ей его подарили на последний день рождения, на семнадцатилетие. Я потрогала ткань — она протянула мне руку, чтобы я пощупала рукав. Чистый шелк. Красными и золотыми нитями на нем вышиты хризантемы и причудливые храмы. Они напоминают мне о бумажных фонариках, что мы вешали на входе. Давно, очень давно.
Боль нарастает, приходит медсестра, ее игла незаметно входит в мою плоть, как искусный пловец в озеро.
Отдых. Я кружусь и качаюсь туда-сюда. Помню чертово колесо на ярмарке раз в год.
Так оно нас катало. Круг за кругом — ух! — и мы боимся, и смеемся, и умоляем его остановиться.
— Мама принесла мне одеколон. «Свежесть» называется. Надушить вас?
— Что ж, почему бы и нет. А тебе хватит?
— Ну конечно. Бутыль-то большая, вот видите?
— Вижу. — На самом деле я вижу лишь слабый блеск стекла.
— Вот так. На каждое запястье. Теперь будете благоухать, как клумба.
— Да уж. То-то все удивятся.
Ребра болят. Никто об этом не знает.
— Здравствуй, мама.
Марвин. Один. Разум всплывает на поверхность. Рыбка плывет со дна. Еще немного, давай. Вот так.
— Здравствуй, Марвин.
— Как ты?
— Я…
Не могу. Наконец приходит время, когда произнести слово «хорошо» становится решительно невозможно. Промолчу. Самое время научиться держать язык за зубами. Но он не держится. Рот сам что-то говорит, и мне остается лишь изумляться.
— Я… я боюсь. Марвин, мне так страшно…
Мой взгляд проясняется, и я вижу его ужасающе четко. Он сидит у моей кровати. Подносит большую ладонь ко лбу и медленно проводит ей по глазам. Склоняет голову. Что на меня нашло? Кажется, впервые в жизни я такое говорю. Стыд, да и только. И все же — это облегчение. Интересно, что он ответит.
— Я знаю, иногда я обижал тебя в последние годы, — тихо произносит он. — Я не со зла.
Я смотрю на него во все глаза. Он вдруг берет меня за руку и плотно сжимает мою ладонь.
Сейчас он видится мне Иаковом, который крепко-накрепко вцепился в меня и торгуется. Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня[28]. Получается, такова моя судьба — наверное, такова она была изначально: не отпустив его, я не смогу отпустить и себя.
Мне хочется просить у него прощения, но он ждет не этого.
— Вовсе ты не обижал, Марвин. Ты был ко мне добр, всегда. Ты хороший сын — лучше, чем Джон.
Мертвые не держат зла и не ищут благословения. Мертвые не страдают. Только живые. Марвин, пожилой мужчина со смятением в глазах, верит мне. Ему не приходит в голову, что в моем положении можно сказать неправду.
Он отпускает мою руку и убирает свою.
— У тебя всё есть? — угрюмо говорит он. — Принести чего-нибудь?
— Нет, ничего не надо, спасибо.
— Ну, я пойду, — говорит Марвин. — До свидания.
Я киваю и закрываю глаза.
Он выходит из палаты, и я слышу его разговор с медсестрой.
— Удивительный у вашей мамы организм. Уже все отказало, а сердце все равно работает.
Пауза, потом ответ Марвина.
— Она кому хочешь жару задаст, — говорит он.
Слушая его, я понимаю, что получила от жизни даже больше, чем могла бы когда-либо надеяться, ибо он говорит обо мне с такой досадой — и с такой нежностью.
Помню, как в последний раз повидала Манаваку. В то лето Марвин и Дорис отправились в отпуск на Восток на своей машине, и я с ними за компанию. Мы проезжали через Манаваку. Сделали крюк, чтобы посмотреть на дом Шипли. Его было не узнать. Там стоял новый дом, в нескольких уровнях, выкрашенный в зеленый цвет. Новый сарай, новый забор, и никаких сорняков у ворот.
— Ого, — присвистнул Марвин. — «Понтиак», последняя модель. Хозяин-то не бедствует.
— Поехали, — сказала я. — Нечего здесь делать.
— Здорово он тут обустроился, — не унимался Марвин. — Дом-то теперь — другое дело.