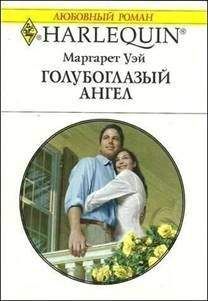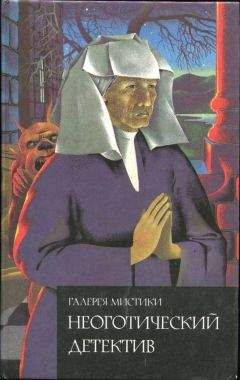Маргарет Лоренс - Каменный ангел
— Вырезали много лет назад, — говорю я, хоть мне не то что аппендикс, даже гланды не удаляли. — Пустячная операция.
— Да? — говорит она. — Точно? Мне пока операций не делали. Когда в первый раз, так и не знаешь, чего ждать.
— Ты не волнуйся, — успокаиваю ее я. — Сейчас такие операции как орехи щелкают. Оглянуться не успеешь, и уже как новенькая.
— Думаете? А я вот не знаю. Ночью аж жутко стало. Не хочу я эту анестезию.
— Нашла чего бояться. Немножко неприятно потом будет, и все дела.
— Да? Честно?
— Честное слово.
— Наверно, вы знаете, что говорите, — предполагает она. — Поди, штук сто операций перенесли.
Я чуть не заливаюсь смехом. Но она обидится, потому я сдерживаюсь.
— С чего ты так решила?
— Ну… Я в смысле, что вы это… не девочка уже…
— С этим не поспоришь. Но операций у меня было совсем немного. Наверное, мне везло.
— Это точно. Маме вон в позапрошлом году матку удалили.
В ее возрасте я не знала, ни что такое матка, ни как ее можно удалить.
— Вот как. Это плохо.
— Да уж. Та еще процедурка. Тут, знаете, дело даже не в самой операции, а в эмоциональных проблемах после нее.
— Да что ты?
— Угу, — с видом знатока говорит она. — Несколько месяцев мать на взводе была. Все никак не могла смириться, что детей больше не будет. Уж не знаю, куда ей еще детей. Пятеро уже есть. Я вторая.
— Немаленькая, однако, у вас семья. А отец твой чем занимается?
— Магазин у него.
— Вот как. И у моего был.
Не стоило этого говорить. Между нами временная пропасть, к чему ей это сходство?
— Да? — равнодушно произносит она. Затем смотрит на часы. — Сказали, придут с минуты на минуту. Ну и где они? В такой огромной больнице, пожалуй, и забыть про человека можно.
— Сейчас придут.
— Нет уж, прямо сейчас не надо, — говорит она.
Глаза ее расширяются, превращаясь в персиковые косточки. Янтарная радужка блестит.
— Матери не разрешили остаться. — Затем с вызовом: — Я-то и без нее справлюсь. Но все не так скучно бы было.
Появляется энергичная медсестра, сдвигает занавески у ее койки.
— Что, уже пора? — жалобно, неуверенно спрашивает она. — Больно будет?
— Даже не почувствуешь, — уверяет медсестра.
— А это долго? А маму потом пустят? Куда вы меня повезете? Эй, вы что задумали? Там-то зачем брить?
Сколько вопросов, сколько ужаса в ее голосе. Тоже мне повод страдать. Я чувствую себя толстой и умудренной опытом старухой — лежу и думаю: ничего, ума наберется.
Проходит час, другой, Сандры все нет; но вот привозят — тихую. Ее койка занавешена. Отходя от анестезии, она тихо постанывает. День тянется и тянется. Мне приносят поднос, я пытаюсь есть, но еда мне больше неинтересна. Я смотрю в потолок, который солнце расписало лучиками. Кто-то втыкает в мою плоть иглу. Интересно, я вскрикнула? Какая, собственно, разница. Но лучше бы нет.
В лесу мне было хорошо. Помню прохладное кружево папоротника. Но жажда привела меня сюда. Мужчину звали Ферни, он рассказывал о своей жене. Она навсегда изменилась. Несправедливо по отношению к нему. Она просто не знала. Но ведь и он не знал. Он не говорил, как она восприняла смерть ребенка. Я плыву, как водоросль. Вокруг — ничего.
— Мама…
Усилием воли я всплываю на поверхность.
— Что такое? В чем дело?
— Это я, Дорис. Как вы? Марва сегодня не будет. Встречается с клиентом. Зато я привела мистера Троя. Помните? Мистер Трой, наш священник.
Боже праведный, что еще Ты мне уготовил? Ни минуты покоя. Помню, как же. Красное, круглое, как полная луна, лицо, сияющий взгляд устремлен на меня.
— Как ваши дела, миссис Шипли?
Похоже, это единственный вопрос, до которого люди могут додуматься в таком месте. С огромным усилием и осторожностью, как будто сосуды могут лопнуть, я широко открываю глаза и смотрю на него.
— Прекрасно. Великолепно. Разве по мне не видно?
— Ну мама… — беспокоится Дорис. — Я вас прошу…
Уговор. Будут вести себя хорошо. Как вам угодно. Только вот если Дорис не сотрет со своей физиономии это выражение торжественного страдания, я огрею ее каким-нибудь брэмовским эпитетом. Результат не заставит себя ждать.
— Мне тут с медсестрой надо поговорить, — удивительный такт для Дорис. — Пообщайтесь пока с мистером Троем.
Она тихонько выходит. Мы остаемся наедине с мистером Троем, в тяжелом молчании. Видно, что он старается заговорить, но ему невыносимо трудно. Он меня боится. Смешно. Мне почти жалко смотреть, как он тужится. Словно окаменев, я выжидаю. С чего я должна ему помогать? Действие лекарства заканчивается. Кости ноют, и эта ноющая боль распространяется по мне, как огонь по сухой траве, языки пламени всё лижут и лижут мое тело. И вдруг — речь: мистера Троя прорывает.
— Не хотите… помолиться?
Как на танец меня приглашает.
— Всю жизнь продержалась без молитв, — отвечаю я. — Думаю, и еще чуть-чуть продержусь.
— Мне кажется, вы не вполне понимаете. Если бы вы попробовали…
Он смотрит на меня с такой надеждой, что я сдаю оборону. Это его служение. Он предлагает, что может. Не в чем его винить.
— Не могу, — говорю я. — Никогда мне это не давалось. Но… если хотите, помолитесь сами, мистер Трой.
Напряжение отпускает его. Теперь ему намного легче. Он читает монотонную молитву, как будто Господь способен слышать лишь одну ноту. Я почти не вслушиваюсь в череду слов. Вдруг у меня возникает идея.
— А вот есть… — не давая себе задуматься, говорю я. — Гимн такой… «Возрадуйтесь, люди» — знаете его?
— Конечно, знаю. Его хотите послушать? Прямо сейчас? — Он, кажется, ошарашен, как будто это совсем не к месту.
— Если вы не против.
— Нет-нет, я-то не против. Просто его обычно поют.
— Ну так спойте.
— Спеть? Прямо здесь? — Он потрясен. Этот молодой человек сведет меня с ума.
— А что такого?
— Да нет, ничего. — Он сцепляет и расцепляет руки. Заливается теплым румянцем и оглядывается, как будто умрет, если узнает, что кто-то подслушивает. Но теперь мне очевидно: в нем есть стержень. Он это сделает, даже если это его убьет. Молодец. За это уважаю.
Затем он раскрывает рот и начинает петь, и теперь потрясена уже я. Пусть бы он всегда только пел и никогда не разговаривал. Пусть пропевает свои службы. Здесь ему не надо с трудом подбирать слова. Голос его тверд и четок.
Возрадуйтесь, люди, и пойте Ему,
Откройте для Господа ваши сердца.
Служите, ликуя, Ему одному;
Возрадуйтесь, люди, и славьте Творца[27].
Как бы я этого хотела. Осознание приходит так резко, так мощно бьет, что мне горько, как не было никогда в жизни. Я всегда, всегда хотела одного: жить и радоваться. Так почему же у меня ничего не вышло? Я знаю, знаю. Когда я все поняла? А может, я всегда знала — в глубине души, в самой дальней ее пещере, о которой никто и не догадывался? Мне было чему порадоваться — мужу, детям, тому, что утром восходит солнце, тому, что я есть на этой земле, — но нет, я не давала этой радости хода, озабоченная соблюдением приличий, вот только кому, кому они были нужны? Была ли я хоть раз самой собой?
Гордыня определяла всю мою жизнь, она была моей пустыней, а демоном моим — страх. Я всегда была одинока, всегда, и совсем не знала свободы, ибо цепи свои носила с собой, и сковывали они не только меня, но и всех, к кому я прикасалась. Мужчины мои, что давно умерли! Сами ли или я вам помогла? Ничего теперь не исправить.
Мистер Трой перестает петь.
— Я вас расстроил, — неуверенно говорит он. — Простите меня.
— Нет-нет, — мой голос глух, а лицо я закрыла руками, чтобы он не увидел. Он, наверное, думает, что я лишилась рассудка. — Просто давно этот гимн не слушала.
Теперь я готова встретить его взгляд. Я убираю руки и смотрю ему в глаза. Он озадачен, встревожен.
— С вами определенно все в порядке?
— Все хорошо, спасибо. Нелегко вам было петь одному.
— Если и так, — мрачно говорит он, — то это исключительно моя вина.
Он уверен, что провалил миссию, а я не могу подобрать слов, чтобы его разубедить, так что придется ему идти домой безутешным.
Приходит Дорис. Прыгает вокруг меня, поправляет подушки, переставляет цветы, причесывает меня. До чего надоела ее суета. Эта кипучая деятельность меня напрягает. Мистер Трой ждет ее в коридоре.
— Хорошо поговорили? — с надеждой вопрошает она.
Вот зачем так наседать, скажите на милость?
— Нам совершенно нечего было сказать друг другу, — отвечаю я.
Она прикусывает губу и отводит взгляд. Мне стыдно. Но я не возьму назад своих слов. И вообще, не ее это дело.
Я решительно неисправима. Всегда говорю одно и то же, всегда готова вспылить из-за каждого пустяка.
— Дорис… я сказала неправду. Он мне спел, и мне это помогло.