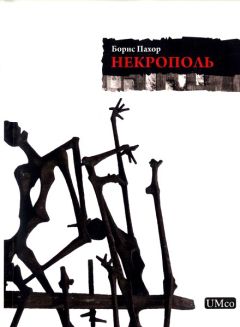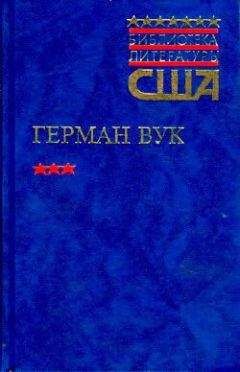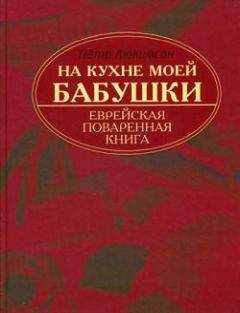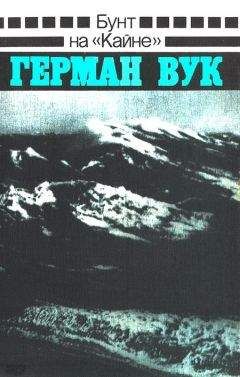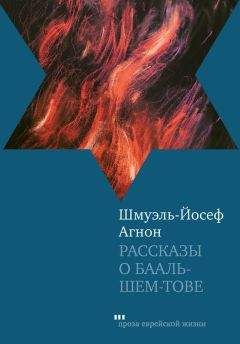Герман Вук - Внутри, вовне
Когда я, прочтя статью, в ужасе поднял глаза на маму, она сидела счастливая, вся светясь от гордости, устремив радостный взгляд на своего ненаглядного Исаака — выдающегося гения из Таунсенда Гарриса.
— Пушка! — ухитрился выдавить я. — Пушка!
— А, ну чего можно ожидать от гоя? — сказала мама. — Он, конечно, все на свете перепутал. И уж я ему точно не говорила, что она должна быть длиной в сорок футов; это он сам выдумал. Но какая разница? Получилась такая милая история!
— Мама, мама! Ты ему говорила, что я завоевал эти пять медалей в школе Таунсенда Гарриса?
— Да ну что ты! — слегка раздраженно воскликнула мама. — Я же тебе сказала, что он все перепутал, или нет? Ничего подобного я ему не говорила, и уж я точно не говорила, что все эти медали — золотые. Я только сказала, что медаль за успехи в английском — золотая, а разве не так? Я ему сказала, что все остальные медали ты получил в лагере «Маккавей». Я только ответила на его вопросы и кое о чем ему рассказала, а он все перепутал. Но что с тобой? Почему ты такой расстроенный? Ведь каждому приятно увидеть свое имя в газете, разве не так? А о тебе не просто упомянули — про тебя напечатали большую статью. Только вот жаль, что этот безмозглый дурень назвал тебя, Бог весть почему, Исааком, но ведь все же знают, как тебя на самое деле зовут. А остальное все очень хорошо. И кто же не знает, что в любой газетной статье обязательно хоть что-то напутают?
Пока она говорила, я думал о том, какие у меня шансы пережить весь этот кошмар. Раньше я никогда, читая газету, даже не заглядывал в раздел местной общественной жизни. Этот раздел помещался на одной из внутренних страниц, перед объявлениями, и можно было надеяться, что в школе имена Таунсенда Гарриса никто этой статьи не заметит. Но ручаться было нельзя, и мне оставалось лишь, затаив дыхание, ждать до пятницы, когда меня должны были принимать в «Аристу». А до того дня мне предстояло жить под дамокловым мечом.
Мама начала проявлять беспокойство. Должно быть, у меня на лице были написаны испуг и озабоченность. Ошибки в статье ее мало волновали. Ведь тут, в газете, была фотография ее Дэвида, а под ней три колонки текста, рассказывающего о его чудесных достижениях; чего же еще ей было желать? Глаза у нее сияли, щеки раскраснелись, она выглядела красивой и очень молодой. Для нее все эти проклятые дела — «бар-мицва», кантор, Магид, кишка, газетный репортаж, унасекомливание тети Сони — были лишь новой местью за плойку, и на этот раз она решила, что она действительно рассчиталась на славу. Я тогда этого не понимал; но, видя, как она радуется, я почувствовал к ней жалость. Еще одна вещь, случившаяся впервые! Жалость к собственной матери, и осознание того, что любая попытка что-то объяснить обречена на неудачу. Между Минскер-Годолом и Зеленой кузиной начала разверзаться пропасть, которой так и не суждено было исчезнуть.
— Конечно, это милая история, мама, — сказал я с напускной бодростью, — и, конечно, у меня была отличная «бар-мицва». А то, что он все перепутал, — это не важно.
Я поцеловал маму и отправился в свою комнату. Стены плыли у меня перед глазами, но я вытер слезы и засел за вторую речь Цицерона против Каталины. До собрания «Аристы» оставалось шесть дней
Глава 31
Собрание «Аристы»
Когда в понедельник утром я ехал в школу имени Таунсенда Гарриса, у меня заранее тряслись поджилки.
В трамвае Эбби Коэн ни разу не упомянул о газете «Бронкс хоум ньюс». Раз в жизни его излияния — отголоски взглядов его отца: о том, что изучать Талмуд — значит зря тратить время, что кошерные мясники все сплошь прохвосты и жулики, причем нисколько не религиозные, и что Бог есть не что иное, как идол каменного века, — казались мне небесной музыкой, коль скоро Эбби ни словом не заикнулся о моей «бар-мицве». Он вообще не знал, что я справил «бар-мицву», потому что я ему ничего об этом не сказал. Вам, может быть, трудно в это поверить, но я жил в Бронксе одной жизнью, а в школе — совершенно другой, и Эбби принадлежал к моей школьной жизни. На свою «бар-мицву» я никого из школы не пригласил — даже Монро Бибермана, хотя он был из вполне еврейской семьи. Я жил попеременно на двух планетах — Внутри и Вовне. В том-то и был ужас, что репортаж в «Бронкс хоум ньюс» как бы перебрасывал мост между этими двумя планетами; и «мой Дэвид», краса и гордость Минской синагоги, был публично объявлен гигантом мысли и физического развития из школы имени Таунсенда Гарриса. И теперь мне предстояло как-то справиться с этим противоречием — разве что чудесным образом о репортаже никто в школе не узнает.
На утренних уроках, на большой перемене, во время партии в шахматы, а потом и на послеобеденных уроках ни-кто о репортаже и намеком не обмолвился. Неужели произошло чудо? Неужели Бог, в Которого я, в отличие от доктора Коэна, безоговорочно верил, посмотрел сквозь пальцы на мои мелкие и крупные прегрешения и преподнес мне на «бар-мицву» этот неожиданный подарок? Даже Сеймур Дрейер, когда мы с ним после уроков вышли на улицу, сердечно помахал мне на прощанье. Этого нельзя было ожидать от Дрейера, если бы он что-то знал. Дрейер, кстати, что немаловажно, жил в Бронксе. Несмотря на это, он состоял в редколлегии «Стадиона» и был членом «Аристы», и он не упускал случая показать, насколько он выше рангом других бронксовцев: например, он не отставал от других, когда меня дразнили за мой лиловый костюм. Так что уж он-то выжал бы все возможное из рассказа о моей персоне, напечатанного в «Бронкс хоум ньюс», знай он о нем.
* * *
Как известно, нет ничего более устаревшего, чем вчерашняя газета, и во вторник я проснулся уже в более бодром настроении. В школе снова не произошло ничего примечательного. «О Боже, — подумал я, — неужели пронесло?»
Нет.
Вернувшись домой, я обнаружил ожидавшее меня письмо от Сеймура Дрейера. Он поздравил меня с «бар-мицвой» и с получением пяти золотых медалей. Он выразил удивление моими успехами в журналистике, поскольку, по его словам, он не знал, что я уже вхожу в редколлегию «Стадиона», и даже не знал, что я пытался туда попасть. Подивившись моей богатырской силе и боксерским способностям, он обещал в будущем быть со мной обходительнее, ибо раньше он понятия не имел, что под моим лиловым костюмом скрывается такая могучая стать. В заключение он сообщил, что теперь меня, конечно, в два счета примут в «Аристу», ибо не так уже много вокруг ходит таких гениев, как я, и мое членство будет для «Аристы» огромной честью.
Наутро, придя в школу, я подошел к Монро Биберману и сказал ему, что я беру назад свое заявление о приеме в «Аристу». Он был как громом поражен.
— Почему? — спросил он. — Что с тобой стряслось?
Что я мог ему сказать? Я ответил первой дурацкой отговоркой, какая мне пришла в голову: мне, дескать, рассказали, что против меня очень настроены в редколлегии «Стадиона». Биберман сказал, что это чушь на постном масле, особенно теперь, когда вопрос о моем приеме в «Аристу» уже практически решен. Только, заметил он как бы мимоходом, хорошо было бы, если бы на собрание «Аристы» я надел другой костюм, и дело будет в шляпе. Я, садовая голова, обещал, даже несмотря на то, что в голове у меня все еще звучали фразы из издевательского письма Дрейера. И вот, как бык на бойню, в новом сером костюме, в котором я на «бар-мицве» величаво прошествовал под сводом из скрещенных флагов, я в пятницу после уроков явился на собрание «Аристы». Когда я вошел в класс, где должно было состояться собрание, там было человек двадцать — членов «Аристы»; некоторые из них курили, а кое у кого на коленях лежали экземпляры газеты «Бронкс хоум ньюс».
— Мистер Гудкинд, — сказал председатель «Аристы», темноволосый, не по годам крупный и довольно симпатичный барчук по имени Джерри Бок, который был главным редактором «Стадиона» и, по слухам, хорошо знал и регулярно навещал одну проститутку, — не будете ли вы так любезны сообщить нам, почему, на ваш взгляд, вы заслуживаете чести стать членом «Аристы»?
Он сел за учительский стол, на котором лежал экземпляр газеты «Бронкс хоум ньюс», открытый на той странице, где был раздел местной общественной жизни. Да, как видно, Сеймур Дрейер потрудился на славу. Он мог бы просто пустить по рукам одну газетную вырезку, но он решил вбить гвоздь по самую шляпку и раз и навсегда подтвердить свои верительные грамоты бронксовца, который презирает бронксовцев. Дрейер сидел в первом ряду, прикрыв рот рукой, и в глазах у него было торжество победителя.
Здесь мне надо бы сделать отступление и рассказать, что Сеймур Дрейер плохо кончил; но, честно говоря, я ничего о нем не слышал с тех пор, как окончил школу имени Таунсенда Гарриса. Дрейер был захоронен в моем подсознания еще глубже, чем Поль Франкенталь, и лишь когда я начал писать о своей «бар-мицве», его образ снова вырвался наверх сквозь шестифутовый слой цемента, под которым он покоился сорок с лишним лет.