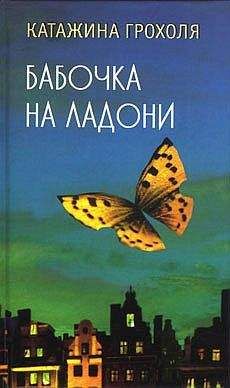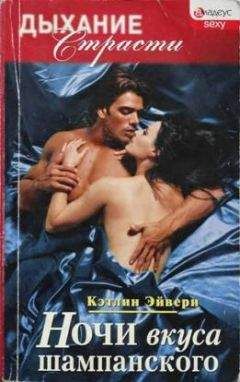Кармело Сардо - Сорняк
Он вошел в бар и поинтересовался, кто здесь Тото Кашитедда, представился и вызвал отца на поединок.
В знаменитом баре “Кастильоне” на виа Романо они разыгрывали партии, за которыми наблюдали десятки знатоков и просто зевак, окутанных клубами сигаретного дыма, – они напряженно следили за каждым ударом мастеров. Отец то побеждал того типа из Агридженто, то проигрывал ему. Никто не мог определить, кто из них лучший.
Кроме бильярда, у отца была еще одна страсть. Подобно всем сицилийцам, живущим на побережье, он любил море и рыболовство. Мой дед с детства выходил с ним в море. И они ловили рыбу своим особым способом, очень шумным, надо сказать.
Они брали с собой старое взрывное устройство, шли в самый конец мола, к заводу “Монтэдисон”, и взрывали динамит в воде. Мертвая рыба всплывала, а дед с отцом, устроившись на камнях, закидывали сеть и вытаскивали добычу.
Впоследствии отец оказался втянут в мафиозные войны. Он избежал смерти, однако выжить мог лишь одним способом – через арест и пожизненное заключение.
Я помню телерепортажи с его судебного процесса. Отец часто попадал в кадр: он сидел за решеткой, в клетке, всегда один, в последних рядах, ближе к судьям. Элегантный. Светлая рубашка, серый или синий пиджак. Иногда даже при галстуке. Рыжеватая борода аккуратно подстрижена. Отец всегда сидел молча. По иронии судьбы рядом с ним сажали представителей “Коза Ностры” девяностых годов, из Агридженто, или Неторе, главаря старой мафии из Казамарины. Судьи знали, что они принадлежат враждующим лагерям. Они старались держаться подальше друг от друга. В то время отец даже представить себе не мог, что через пять лет, майским утром 1991 года, Неторе падет последней жертвой моей вендетты, а потом я повторю судьбу отца – буду заживо погребен в камере. Более того: в одной камере с ним!
Власти намеренно сделали нам этот подарок. Пять бесконечных лет мы с отцом делили грязную камеру в тюрьме особо строгого режима. И это было наказанием для обоих. Жестокий, унизительный, разрушающий опыт. Отец и сын, запертые вместе на восьми квадратных метрах, – отличный итог их загубленных жизней. Видеть друг на друга в изнурительной рутине повседневных дел. Раздеваться, одеваться, есть, пить, ходить по очереди в туалет за ширму. Пытка. Наказание внутри наказания.
Мы подозревали, что нас посадили вместе с целью развязать нам язык. Следствие надеялось, что таким образом подтолкнет нас к сотрудничеству с правосудием. Но мы никогда не разговаривали друг с другом. Говорить было не о чем. Мы часами могли молчать.
Мы хирели, опускаясь на дно страданий, навсегда подменивших для нас жизнь. Тот, кто не испытал ничего подобного, не сможет меня понять. Пять лет спустя нас перевели в другую тюрьму, но там мы уже сидели в разных камерах. Вероятно, следователи и вправду держали нас вместе столько лет с намерением “разговорить” – а теперь поняли всю бесполезность подобной меры, ведь мы с отцом так и не сдались. Нас развели по разным камерам, хотя мы и находились в одной тюрьме. И это было к лучшему.
Потом нас разлучили навсегда. Отца отправили в Секондильяно, а меня в Каринолу. Помню день переезда. Я издалека увидел, как отец, забираясь в арестантскую машину, поднял руки в наручниках и помахал мне, в то время как я ожидал посадки в другой фургон. От этого воспоминания у меня сжимается сердце, ведь тогда я видел отца в последний раз.
В аду тюрьмы Секондильяно отец начал медленно умирать. Первый инфаркт, второй. Невозможно описать боль, которую испытываешь, зная о муках родных. Я страдал за отца и был вне себя от ярости. Тюрьма – тяжелое наказание, а когда человек болен, заключение переносится еще тяжелей. Оно становится пыткой. Отец перенес несколько инфарктов. Он не мог самостоятельно помыться, сменить белье. Он был уничтожен физически и морально. Вот почему в определенный момент… Нет, не могу об этом говорить. Я не в состоянии произнести это слово. У меня перехватывает дыхание.
Мне сообщили о его самоубийстве в то же утро. Двадцать пятого мая 2007 года. Меня вызвали из камеры и отвели в переговорную.
Сообщить новость должна была женщина – социальный работник. Она еще не успела произнести ни слова, но по выражению ее лица я тотчас догадался, что ничего хорошего меня не ждет. Я вежливо поздоровался с ней и попросил охрану оставить нас наедине. Женщина помрачнела еще больше.
– Я должна сообщить вам неприятное известие, оно касается вашего отца… Видите ли, к сожалению…
Она явно подыскивала слова, говорила мягко, по-матерински. Но к начатой было фразе ничего не нужно добавлять. Я молчал и смотрел в пол. Она напомнила, что я имею право пойти на похороны. Известие настолько потрясло меня, что я утратил дар речи. Я лишь спросил, могу ли вернуться в камеру.
– Но скажите, все-таки, пойдете ли вы на похороны, – настаивала женщина.
– Нет, не пойду, – ответил я сухо и вернулся в камеру. На следующий день, после ужасной бессонной ночи, полной горьких раздумий, я спросил у начальника тюрьмы разрешения поехать домой и обнять мою любимую маму – вместо похорон. Это было предусмотрено здешним порядком, так что мне не делали никаких одолжений. Два дня спустя меня отвезли в бронированной машине на поминки в Казамарину. Десять часов пути в бронированной машине. Ни шагу без сопровождения охраны, я даже не мог выйти один в туалет.
Я крепко обнял мать, сестер, младшего брата, глотая слезы, которые непрерывно текли по щекам. С деликатностью, необходимой в подобной ситуации, полицейские отстранили меня от матери: настала пора возвращаться. Обратный путь был долгим и тяжелым. Сердце ныло от боли, с которой я остался наедине в пустоте камеры.
Прощальные письма
Через три дня после поминок я получил письмо. Я сразу узнал почерк. И долго теребил конверт похолодевшими пальцами, не решаясь открыть. Я присел на нары. Отправителю не нужно было писать на конверте имя и адрес – все ясно и так.
Особая марка и печать с датой “25 мая 2007 года”.
Я все понял. Я попытался открыть конверт, но не смог. Положил нераспечатанное письмо в другой конверт, взял листок бумаги, набросал пару строк и отправил все матери. Тогда же почтальон доставил ей еще одно письмо. Знакомый почерк, та же марка и печать и тот же отправитель – мой отец. Письмо было адресовано синьоре Франческе, моей матери. В конверт вложено шесть листов в линейку, исписанных ручкой, печатными буквами. Письмо для жены и еще три письма – для каждого из детей. С щемящим сердцем они прочли и перечли прощальное послание отца.
Вот эти письма. Моя мать передала их через “секретного агента”: вдруг я решу вставить их в книгу. Но сперва мне придется прочесть их. Я попытаюсь. От этих писем холодеет кровь. Как, впрочем, и при мысли о решении отца свести счеты с жизнью.
Почерк аккуратный, твердый, разборчивый. Грамматические ошибки не слишком бросаются в глаза и, скорее, украшают эти грустные прощальные строки. Несколько фраз из письма объяснят лучше, чем тысячи трактатов, что такое холодное отчаяние и душевная слабость, обнажающие за маской преступника – человека.
Первое письмо адресовано моей матери:
Душечка, когда ты прочтешь это письмо, пройдет три или четыре дня после моей смерти… Вот уже несколько месяцев назад я перестал быть собой по неизвестной мне самому причине. Могу сказать, что в моем мозгу завелись два вируса, названия которых я не знаю. Один подбивает меня совершить то, что я решил совершить, другой – отговаривает.
Отец признался, что решил не лечиться. Он отказался от госпитализации, от осмотра и лечения. Он отказался от жизни.
‹…› Милая, один вирус говорит мне покончить с этой жизнью, другой – не делать этого. Один говорит другому: “Ты трус!”, другой отвечает, что он смелый и докажет это. Сдается мне, любимая, что победил смелый вирус, а не трусливый. По-моему, это смелый поступок – покончить с жизнью, ведь трус не отважится убить себя. Поэтому, моя любовь, прости меня за это отчаянное решение, а также за все лишения и беды, которые свалились на тебя за сорок пять лет. И не стыдись моего поступка. Если бы одержал верх другой вирус, ты стыдилась бы меня всю оставшуюся жизнь.
Отец хладнокровно размышляет о том, другом, выборе, которого он не хотел делать, сознавая, что, останься он жив, то был бы обречен на жалкое, постыдное существование. Тото Кашитедда никогда не шел на попятную. Никогда не уступал давлению магистратов. Он не верил, что можно просто вычеркнуть из жизни криминальное прошлое и стать другим человеком, честным и достойным, начать все с чистого листа.
Начать новую жизнь, размеренную и порядочную. Вдали от родного края и семьи.
Он предпочел остаться собой. Со своими судимостями, муками, болью. Он сам избавился от приговора к пожизненному заключению. Его срок истек на рассвете дня, которого он так и не увидел.