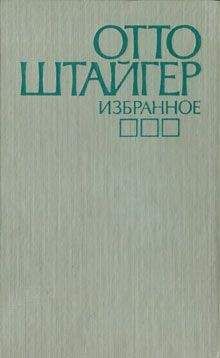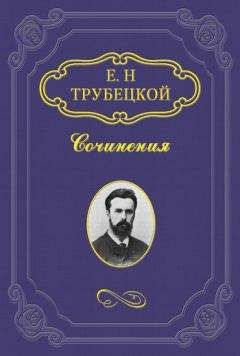Митчел Уилсон - Встреча на далеком меридиане
— Разве в вашем происхождении есть что-то необычное?
— Вот в том-то и дело. Ровно ничего. Дед мой был очень бедный, очень невежественный, фанатически религиозный крестьянин. Я родился в его избе, под Рязанью. Вся семья ютилась в одной-единственной грязной и тесной клетушке. Дед был человек жестокий. Он не любил ни меня, ни мою мать, ни отца. Недавно кончилась гражданская война, и, помню, у всех была одна забота — как бы прокормиться. Из города приезжали люди, выменивали у нас продукты — так мы жили. Надували горожан, как могли. Дед все время ссорился с матерью, потому что она хотела, чтобы все было по-честному. Она жалела людей, приезжавших к нам за продуктами. Ссоры не прекращались. Отец не выдержал и уехал в Москву. В те годы работы на всех не хватало, но ему как-то удалось устроиться на фабрику дворником. Он еще мальчишкой ушел в армию, провоевал две войны и к двадцати шести годам остался без всякой специальности. Он поселился в маленькой комнатушке вместе со своими знакомыми и наконец выписал нас. Таким-то образом я попал в Москву и стал ходить в школу. Как видите, ничего примечательного тут нет. Примерно такую же историю можно рассказать о каждом, кого вы видели у меня в субботу. Кстати, надо будет на днях опять собраться, — более оживленным тоном сказал Гончаров. — Или поедем в воскресенье на дачу, к моим друзьям, пока они не переехали в Москву. Думаю, вам это доставит удовольствие. Там интересное общество — ученые, писатели, актеры…
— Постойте, — сказал Ник. — Минуту назад вам было шесть лет, вы были сыном дворника, жили в одной квартире с другой семьей. А сейчас вы приглашаете меня ехать за город на вашей собственной машине к известным ученым, писателям и актерам. Должно же было что-то случиться за это время?
— А что могло случиться? — удивился Гончаров. — Я пошел в школу. — Он вдруг засмеялся. — Простите, — вежливо извинился он, — но вы меня рассмешили, сказав, что мы жили в одной квартире с другой семьей. Вы меня не поняли. Я сказал, что мы занимали одну комнату — одну в четырехкомнатной квартире, и в каждой комнате жили несколько человек. Так было тогда, да и сейчас еще так же многие москвичи живут. Видите ли, мой отец уже не был дворником — товарищи по заводу обучили его работать на простейших станках. Потом он стал осваивать более сложную профессию, но этого ему было мало, и он решил учиться по вечерам. Начал он в тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Через десять лет он стал инженером. Мы, бывало, сидели с ним за одним столом и занимались. Я любил эти часы. Мы были очень дружны с отцом. Он помогал мне, а я иной раз помогал ему — по крайней мере так мне представлялось. Во всяком случае, я держал перед ним книгу, пока он заучивал формулы. Попутно я спрашивал у него, что значит то или это. Он объяснял. Я считал его самым умным человеком на свете, и не удивительно, что заинтересовался точными науками. Так что, видите, тут в общем нечего и рассказывать. — И снова он прервал свое повествование и заговорил о другом, более для него интересном: — Может быть, когда мы поедем, вам будет любопытно поговорить с Горовицем, он раз в неделю приезжает сюда из Дубны. Его нейтрино…
— Разумеется, — сказал Ник. — Но пока вы с отцом занимались за одним столом, что же делала другая семья? Они были тут же, в этой комнате, не так ли?
— Они скандалили, — кратко ответил Гончаров.
— Скандалили?
— Да, скандалили. Он был очень славный, а она — очень добрая, но они ссорились все время. Ссорились из-за чего угодно. Однажды я спросил его, как называется столица Эквадора. Он говорит — Кито. Она говорит — Кваякил. Он говорит — Кито. Она говорит — Кваякил. Он говорит — Кито, черт тебя возьми. Она говорит — не смей ругаться. — Гончаров засмеялся. — И так всегда. День и ночь они ссорились. А мы с отцом сидели и занимались как ни в чем не бывало. Быть может, — опять вернулся он к более интересным для него делам, — вы хотите съездить в Дубну посмотреть циклотрон? Надо бы вам выкроить дня два. Я договорюсь с…
— Как же вы могли заниматься, когда они ссорились?
Гончаров пожал плечами.
— Мы не обращали внимания, вот и все. Как-то раз отец сказал мне, что придет время, когда мы будем жить иначе, и я ему поверил. Что касается соседей, то они в конце концов развелись.
— Вам стало легче, когда они уехали?
— Кто уехал? Куда они могли уехать? Им негде было жить. Боже мой, ну как вам все это объяснить? Они не уехали, они остались. Никто из них не хотел уступить другому. Он купил ей кровать, и мы переставили все свои кровати. Наши стояли посреди комнаты, ее кровать — с одного боку, его — с другого. Каждый из них завесил свою кровать занавеской. Но ссорились они по-прежнему.
— А вы продолжали заниматься?
— Мы продолжали заниматься, — невозмутимо подтвердил Гончаров. — Моя сестренка тоже села за книги. Учиться было интересно. Понимаете, необходимо было чем-то увлекаться — своей работой или чем-нибудь еще, иначе такая жизнь стала бы невыносимой. Но если трудишься ради чего-то в будущем, — а мы так и трудились, — тогда самое главное в жизни это, а не тесная комната. Да, жили мы трудно, и оставалось либо смеяться, либо перерезать себе горло, либо принимать все так, как есть. Мы и принимали и продолжали учиться. Даже когда наши соседи опять поженились.
— Друг с другом?
— Нет, — засмеялся Гончаров. — Сначала он женился на другой женщине. Потом и она вышла замуж — быть может, на зло ему. Таким образом, в комнате оказались уже три семьи, и тут моя мать сказала: хватит! И верно, куда же больше. Она стала надоедать городским властям, обивая пороги учреждений, требовала, бранилась. Отец хлопотал о жилье у себя на заводе, и наконец мы получили две комнаты в другом доме — большую и маленькую, вроде ниши. Кухня была общая, но соседи попались славные. И как удобно нам стало заниматься! Просто замечательно.
— И вы в самом деле считаете, что тут нет ничего необычайного? — спросил Ник.
— Ну, конечно, и мне и отцу было нелегко заниматься. Это бесспорно. Еще совсем недавно я не был бы столь откровенным с вами. Гордость, знаете, ну и другие причины, одной из которых могла быть осторожность, — признался он, чуть нахмурясь. — А собственно, почему не рассказывать? Правда есть правда, и зачем нам ее замалчивать, от кого прятать? Конечно же, не от своих — они все знают, потому что сами это пережили. От иностранцев, которые станут думать о нас хуже, узнав наши семейные секреты? Нет, пусть знают и восхищаются, черт их возьми! Как же они поймут, что мы за люди, если не будут знать, что мы пережили — одни по своей воле, другие нет — и какие мы приносили жертвы — и нужные, и ненужные — ради того, что мы сейчас имеем и будем иметь? И мы добиваемся своего, несмотря на то, что нам досаждают наши собственные лгуны, подхалимы, трусы, карьеристы, хулиганы и бюрократы. А! — он с отвращением махнул рукой, как бы отбрасывая их всех прочь. — Поймите, чтобы достичь того, чего мы хотим и в чем нуждаемся, мы живем очень трудной жизнью; жилищные неудобства — это далеко не самые большие для нас лишения. Да, так мы живем, и что из этого? Я бы сказал, жилищные мытарства моей семьи можно представить по-разному как комедию или как трагедию, но ведь потому-то в Москве сейчас такое множество строительных кранов. Мы долго ждали и много трудились ради того, чтобы эти мытарства отошли в прошлое. Вскоре они станут предметом изучения для наших историков, а несколько таких комнат, быть может, сохранят как музей, и наши школьники, глядя на них, будут считать нас героями.
— И, по-вашему, тут нет ничего необыкновенного? — опять спросил Ник.
— Разумеется, это необыкновенно! — спокойно возразил Гончаров. Необыкновенно и ужасно. В нашей жизни все так или иначе необыкновенно.
— Включая и то, почему такой человек, как вы, никогда не был женат?
Глаза Гончарова блеснули гневом, лицо побледнело и стало суровым.
— Тут тоже нет ничего необыкновенного, — не сразу ответил он. — Но это совсем из иной области. — Он встал. Ник понял, что зашел слишком далеко. Давайте займемся нашим делом.
Почти все вечера Ник мог бы проводить с Анни, но она не всегда бывала свободна. Временами, когда они оставались вдвоем, она переставала быть ласковой и оживленной, внезапно погружалась в задумчивость и словно витала где-то, куда не было доступа Нику. Такие минуты повторялись все чаще и чаще. Ник знал, что у нее много работы, но чувствовал, что дело не только в этом.
Он постоянно думал о ее словах: «Я найду способ убежать от тебя!», и вдруг однажды вечером его осенила пугающая догадка.
— Что-то я давно не видел Хэншела, а ты? — внезапно спросил он.
— Я видела, — чуть поколебавшись, ответила Анни. Они сидели в кафе «Арарат», в той половине, где столики стоят на возвышении. Низкий потолок был расписан ярким орнаментом, за спиной у них горели краски освещенной боковым светом панорамы, и записанный на пластинку голос Ива Монтана, поющего «C'est si bon», казалось, несся с вершины Арарата, с бурых холмов вокруг озера Севан, из увитых виноградом развалин на скале. — Я видела его вчера, — добавила она.