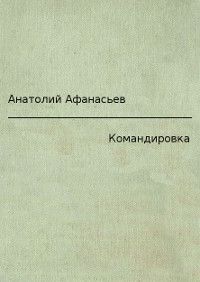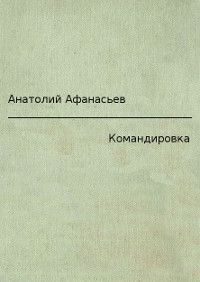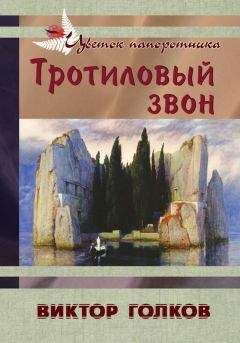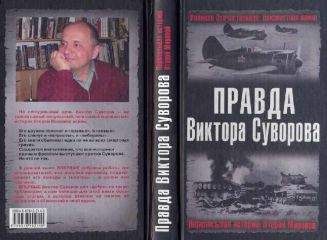Анатолий Афанасьев - Командировка
— Вы извините, — сказал я. — Такая теснотища, как в очереди за палтусом. И меня еще сбоку вот этот мужчина все время пихает.
— Ничего, — милостиво кивнула девушка, — А вас как зовут?
— Людмила… Тсс! — она предостерегающе подняла мизинчик. Все смотрели на худого, черноволосого дядьку, сидевшего почти напротив меня, ближе к окну.
Дядька витийствовал без умолку, а если на мгновение умолкал, дабы пропустить рюмашку, тут же со всех сторон неслись к нему умоляющие женские голоса: «Продолжайте, Иннокентий! Мы слушаем, пожалуйста, продолжайте! Это так тонко!»
Обличьем знаменитый поэт напоминал усохшую грушу «бери-бери», к которой какой-то озорник приклеил два тыквенных семечка — глаза.
— Поглядите вокруг внимательно, — призывал поэт, обводя вилкой гостей. — Кому нынче интересна и душевно необходима поэзия? Только самим поэтам, да еще тем, которые почему-то воображают себя поэтами. Это одно из следствий научно-технического прогресса. Увы! Стихи, множество стихов продолжают печатать по инерции, по традиции. Их читают юнцы, экзальтированные девицы, а зрелым людям они ни к чему. Люди спешат. Скорость превыше всего. Как только люди заспешили, как только утратили вкус к божественной медлительности, нужда в поэтах исчезла. Полагая, что, чем быстрее бежишь, чем больше освоишь наукообразных истин, тем быстрее очутишься в райских кущах, человечество приблизило себя к катастрофе, к самоуничтожению. Ослепленное, оно не замечает преградительных знаков на краю пропасти — фосфоресцирующих черепов погибших и никому не нужных поэтов.
Тут Иннокентий ненароком ударил себя в грудь кулаком.
— Какие верные и страшные вещи он говорит! — обернулась ко мне соседка Люда.
— Выпьем! — предложил я громче, чем следовало. — Выпьем за никому не нужных поэтов. За их предупредительно фосфоресцирующие черепа.
Многие на меня оглянулись с неодобрением, а Иннокентий указал на меня вилкой, как на иллюстрацию к его трагическому откровению. Но рюмку охотно поднял.
Девушка слева подала ему тарелку с маринованными огурчиками и держала ее на весу, пока он пил.
Я сказал громче прежнего:
— Да, вот и дворники тоже нынче без надобности.
Стоило появиться уборочным машинам, как нужда в дворниках резко сократилась. Собственно, дворник стал фигурой анекдотической. Нет для него больше поля деятельности.
Михаил сбоку сипло захохотал, тесня меня бедром.
Иннокентий расстроился окончательно:
— Вы ничего, видно, не поняли, молодой человек.
Я высказывал очень серьезные вещи.
— Отмирают древние профессии, — согласился я. — Тут не до юмора.
Иннокентий, всматриваясь в меня, слишком надолго задумался, и я испугался, что он собирается швырнуть в меня надкусанным огурцом. От греха поднялся и вышел на кухню, словно бы имел там надобность.
Люда почему-то вышла следом. Стоя у окна, мы закурили. У нее было невыразительное, милое, чуть одутловатое, капризное лицо, и в глазах горели веселые звездочки. Она мужчин изучала и поэтому к ним приглядывалась.
— Что это вы так прицепились к Иннокентию? Вы ИЗ МИЛИЦИИ?
Я ее тоже стал разглядывать и увидел, что у нее изумительно выточенные руки с длинными розовыми ноготками, а тонкую талию перехватывает солдатский ремень с широкой латунной бляхой, видимо, признак принадлежности к чему-то. Я подумал: забавно бы было ее неожиданно схватить и поцеловать. Что такого.
— А как фамилия Иннокентия?
Она назвала довольно известную, по крайней мере я ее слышал не первый раз. Но никаких поэтических ассоциаций эта фамилия у меня не вызвала.
— Я не из милиции, нет. Просто меня раздражают фарисейские пророчества. Я их, Люда, много наслушался.
— Вас раздражает его откровенность?
— Это не откровенность, а способ воздействия на детские умы наивных девочек. Такая откровенность — род провокации.
— Может быть, вы завидуете ему?
— Если вы в него влюблены, то да.
Этот смелый пассаж Люда встретила журчащим горловым смешком.
— У него и без меня достаточно поклонниц, слава богу, — сказала она. Ужас, сколько у Иннокентия поклонниц.
— Он женат?
— Какое это имеет значение.
— В самом деле, — глубокомысленно кивнул я. — Поэт, в сущности, принадлежит всем и никому. Я понимаю.
— А вы мне нравитесь, — задумчиво сказала Люда. — У вас очень изящная манера излагать гадости.
На самом интересном месте в кухню вошел крокодил Гена, то биучь хозяйка дома.
— Гости хотят горячего. Каково? — зубастая улыбка мне персонально. — Вы что тут уединились. У вас роман?
— Этот товарищ заводит Иннокентия, — пояснила Люда. — Думает, очень умно. А Иннокентий, может, самый несчастный человек на свете.
— Завтра он будет еще несчастней. С похмелья.
Пьет как резиновая губка.
— Мы не имеем права судить.
— Сейчас устрою яичницу, — объявила хозяйка горделиво. Она достала из шкафчика сковородку, поставила ее на газ и бросила туда огромный кусок масла. Из холодильника вынула коробку с яйцами.
— Помидоры у вас есть? — спросил я.
— Конечно.
— Хотите, я приготовлю яичницу с помидорами?
— Пожалуйста.
Я знал один кулинарный секрет, которому научила меня мама. Я пользовался каждым случаем, чтобы приготовить яичницу с помидорами. Женщины с некоторым недоверием следили за моими приготовлениями, а я пытался загородить от них сковородку спиной.
Секрет есть секрет. Такая же ценность, как золотой в кубышке. По кухне заструился кисло-сладкий аромат масла, яиц и помидоров. Сковородка вспыхивала желтыми яичными искрами. Спотыкаясь, на кухню забрел Михаил.
— А-а! — сказал он. — Значит, так. Там люди с голоду помирают, а тут обжираловка. Конечно, это Витькины штучки.
Миша протиснулся к хозяйке и полуобнял ее за плечи:
— Полюбуйся, Тамара, какой у меня друг. Хозяйственный, непьющий, а главное — холостой.
— Вы неженаты? — удивилась Люда.
— Да, я одинок.
В комнате, куда мы вскоре вернулись, было все попрежнему, только Иннокентий вроде бы совсем отключился.
— Неразумные хазары! — басил он себе под нос, но так, чтобы все слышали. — Ямщики с бубенчиками.
Красивые песни, красивые слова, а в жизни — мат, хамство, запах пота и мочи. Ненавижу! Все ненавижу, что воняет. Хочу, где чисто и светло. Вы понимаете?
Где чисто и светло!
Он уставился на меня. Должно быть, перепутал с кем-то из своих давних обидчиков.
— Понимаю! — ответил я. — Если это ко мне вопрос, то понимаю и сочувствую.
Но Иннокентий не успокоился. Возможно, он опытным взглядом заметил наши с Людой тет-атетные делишки и решил погубить меня навеки в ее глазах.
— Все вы понимаете, умные мальчики! — заметил он проникновенно и мудро. — У вас на все готовы ответы и шуточки. Но вы даже не представляете, как пусты со своей иронией и мерзкими подковырками.
Я напился, и вы готовы оплевывать поэта. Что ж, ликуйте! Топчите ногами! Такова ваша роль в этой пьесе. Роль палачей, которым не дано понять, кто их жертва.
Пробудился задремавший было у меня на плече Миша Воронов. Я и то недоумевал, почему он так долго не вмешивается.
— Ты чего, Кеша? — сказал он с холодным, трезвым предостережением. — Ты перед кем выпендриваешься?
Ах, друг дорогой!
— Извиняюсь! — сказал поэт, продемонстрировав интеллектуальную гибкость психики. Инцидент был бы исчерпан, но соседка Иннокентия, подававшая ему раньше маринованные огурчики, вдруг взвилась:
— Как вы смеете рот человеку затыкать?! Пусть говорит, что хочет. Вы… Говори, милый, говори!
Иннокентий, возбужденный непонятным гулом, куда-то засобирался. Он не умел уйти сразу, как подобает мужчине, а мялся, пыжился, делал вид, что никак не может выдвинуть свой стул, беспомощно озирался. Трудно, понятное дело, уйти за здорово живешь от дармовой выпивки. Но ничего другого ему не оставалось, раз уж он начал вставать. И никто его, против ожидания, не утешал, не уговаривал, если не считать соседку, камнем повисшую у него на плече.
Храни бог преданных женщин! Никто не приходил ему на помощь, и он вдруг оставил свои попытки, сник, тупо уставясь в тарелку.
В этот вечер еще танцевали, придвинув стол к стене. В жуткой, дымной тесноте несколько пар топтались на месте. Я танцевал с Людой. Она говорила:
— Вы таинственный человек, Семенов. Я не пойму: добрый или злой. Я обычно это чувствую нервами.
Ее тело пульсировало в моих руках, извивалось, отталкивалось и притягивало. Привычное бесстыдство возможного быстрого сближения не привлекало меня, как в иные времена. Но я держался за этот танец, за эту ниточку пустого разговора, потому что знал, если она оборвется, будет совсем худо.
За весь вечер я вспомнил о Наталье всего два раза, зато мысль о том, что я вспомнил о ней всего два раза, укрепилась в сознании, как шуруп в доске.