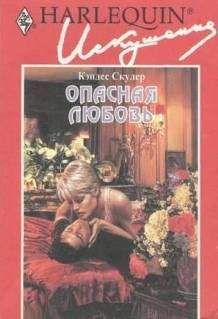Хуан Онетти - Избранное
— Верно, — сказал Штейн, — бывает. Если не принимать в соображение, что может найтись человек, который вынужденно усложняет проблему и путает исходные данные. Но почему историю веры в страсть надо начинать с Гертруды?
— Гертруда — это кто, ваша супруга? — спросила женщина.
— Никто, — воскликнул Штейн быстро, учтиво, целомудренно.
— Я спросила у него. Да?
— Была, — ответил я. — Когда-то давно.
— Вы напились и сердитесь, — разнеженно прошептала она. — Значит, очень ее любите.
— Потому что она начинается с Гертруды, — сказал я. — Начинается с того, что меня посчитали человеком, который платит цену. Но когда я по-настоящему узнал большое белое тело, когда выучил его наизусть и почувствовал, что способен нарисовать его в темноте, даже не умея рисовать, я понял, что исследование проблемы только начинается. Ключ к тайне лежал в другом месте, большое белое животное в постели не было ее символом.
— Я попрошу еще полбутылки, — сказал Штейн; он наклонился и слегка поцеловал рот женщины; вздрогнув, она отвела от меня взгляд и, словно проснувшись, улыбнулась Штейну. — Не узнаю тебя; сказать точнее, в том, что ты говоришь, я узнаю себя. Снова ты становишься сегодня в известном смысле Штейном. Чтобы возразить тебе хотя бы молчанием, завязать дискуссию и использовать все выгоды момента, мне надо превратиться в незабвенного Браузена. Но услышать себя самого из твоих уст довольно лестно.
— Нет системы, с помощью которой можно познать любого человека; для каждого нужно изобретать особую технологию. Я создавал и модифицировал ее на протяжении пяти лет, пытаясь понять, кто такая Гертруда. Мне необходимо было выяснить это, чтобы достичь уверенности, что она моя.
— Достичь уверенности… — с улыбкой повторил Штейн.
— Пять лет, а потом пришлось вернуться в постель. Но противоречия тут нет, только тогда я и понял, что же такое обнимаю. И готов на то же терпение, на то же усердие всякий раз, когда потребуется.
— Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Но я больше не слышу себя в том, что ты говоришь. Это уже не я. Ладно, согласен, ты не был человеком, который заплатил цену.
— В таком смысле не был. Я был тем, кто не выбирал вещей и дорог, обитателем пустыни, обочины жизни, был свидетелем. Кроме того, я заключил пакт со временем, мы с ним согласились не подгонять друг друга, ни оно меня, ни я его. Я всегда знал, что все то, что мне подходит, дожидается меня на вершине какого-то часа какой-то недели какого-то года, а выведыванием точной даты не занимался. И я, свидетель, испытывал жалость, видя, как окружающие находят удовлетворение, нуждаются в крохах преждевременных родов. Ведь каждый принимает себя таким, каким открывает во взглядах окружающих, каждый формируется в сожительстве, смешивается с тем, кого в нем предполагают, и действует сообразно тому, чего ожидают от этого несуществующего предполагаемого.
— Не понимаю, — сказал Штейн. — В смысле, что я другого мнения.
— Сегодня закроют позже, — сказала женщина. — Говорят, когда много народу, им выгоднее заплатить штраф.
— Ее хриплый голос, — заметил я, — напоминает мне Маклеода. Вот детский пример: Маклеод уже много лет был не самим собой, а местом, которое занимал. Его определяло то, чем его считали; прежде чем подумать, он соображал, что ему положено думать — как экспатриированному североамериканцу на такой-то службе, в таком-то возрасте, с таким-то жалованьем. Это соображение опережало его желания… Теперь яснее?
— Мысль понятна, — сказал Штейн, — но она не работает. Почему Маклеод был всем этим, а не дирижером оркестра или золотоискателем? Зачем перекладывать на других нашу посредственность?
— В основе это вопрос не посредственности, а трусости. И еще слепоты и забывчивости, того обстоятельства, что сознание предстоящей смерти не пробуждено в каждой нашей костной клетке. Я мог бы проговорить до утра; мне все послушно, я все вижу со стороны.
Женщина посмотрела на площадку, затем на часы на запястье Штейна…
— Не время еще, милый. Ты же знаешь, раньше мне не отделаться.
— Мало того, что ты лгал мне все эти годы впрямую, — заявил Штейн. — Ты еще лгал мне всеми жестами, всеми позами, всеми фразами, которые доходили до меня без твоего ведома. Имеется некий Браузен, и вдруг тем же голосом, с тем же наклоном головы, с чемоданом расчленителя трупов между ног, тот же самый или другой Браузен отвергает свой образ и заставляет меня пересматривать длинное прошлое, стирать тысячу впечатлений, чтобы добраться до его подлинного лица. Стоит ли труда?
— Человек, готовый платить цену, — сказал я. — Но платить не для того, чтобы купить что-то, а чтобы заслужить то, что дарит ему бог или дьявол. Платить не до, как ты и другие, а после. Я еду с одной женщиной в Монтевидео, повидаю Ракель, брата, всю компанию. Я искал тебя, чтобы сказать это. Не знаю, надолго ли.
— Лечу утренним самолетом, — продолжал я лгать. — Прежде я считал, что мне важно вернуться в Монтевидео, увидеться с ними после стольких лет разлуки, но теперь я понял, что главное — это пуститься в путь, прочь от Буэнос-Айреса, от данного перевоплощения Маклеода, от Гертруды, от тебя, от всего этого периода. Ведь он давно закончился, хоть и не сразу — у него, как у покойников, еще росли борода и ногти. Теперь он завершен, и так основательно, что кажется сном, который приснился кому-то другому. Я хотел обмануть себя и думал, что город, кафе в закоулке у площади, ночи на той улице с цветниками, что идет под уклон, там еще две таких, ты должен помнить, в Рамиресе или Пунта-Карретасе, что это, и еще сотня вещей, и Ракель, и мой брат, и Лидия, Гильермо, Марта, Суарес, что все это и все они хранят мою молодость и достаточно поехать туда, чтобы вновь ее обрести.
— Не забудь осмотреть ее, когда вернется, — сказал Штейн. — Ноги, платье между ногами при ходьбе. Она сводит меня с ума. Но так не бывает; а если бы и случилось, что они сберегли тебе Браузена пятилетней давности, ты не знал бы, что с ним делать.
— Все это обман, — ответил я. — Главное, покончить, покончить с этим прошлым, с прежним. Может, я пробуду там месяц и поеду дальше, в Бразилию. Я напишу тебе, клянусь.
Женщина подошла к столу раньше, чем я успел оглянуться, раздвинула на скатерти зеленые пальцы, засмеялась в сторону. Она расположилась в мире, ожидая чего-то еще не пережитого, но точно представляемого ею во всех деталях, включая значение и следствие каждой детали.
Должны закрыть в три. Я уверен, что Эрнесто по-прежнему спит в номере гостиницы. Конечно, он может сбежать, но он навсегда связан со мною запиской, которую они найдут рядом с ключом. Мне интересно только одно: может сбежать, но не решается, чувствует, что оторваться от меня нельзя. А вы сами? Я — что угодно; пожалел его, подумал, что приключение стоит риска. Там — записка, там — охота все рассказать, бедняга. Я не пьян, это легкое возбуждение над бездонной глубиной покоя и безразличия. Мне больше не о чем говорить со Штейном.
— Минуточку, дорогая, — сказал Штейн. — Я был прошлым и для этих святых Жанн. Они сводили меня к символу своего позорного прошлого и бросали, уходили с патлатым кадыкастым малым, противником чистоплотности, бесноватым двадцати с небольшим лет, который вылетает из армии, как репей, и непременно приземляется, будь проклята моя душа, в Буэнос-Айресе, федеральной столице. Едва очухавшись от удара, он открывает, что бог указует на него перстом и преследует заключенным в треугольник оком, веля делать мировую революцию. Как известно, данная задача не может быть выполнена без поддержки, вдохновения и близости девушки, способной вызывать желание и зарабатывать на жизнь. Вследствие чего мне доставалось выносить от Орлеанских не столь уж дев живописание моих мелкобуржуазных актов, суд над каждым поступком и мнением по мерке предубеждений (честно говоря, они были не очень «пред», так как приобретались неделю назад под воздействием очередного, черт бы его побрал, патлатого, хотя моя знаменитая мужская интуиция и не подозревала о процессе политизации), суд и выражение щедрой и безнадежной жалости ко мне как к пережитку умирающего общества, его предсмертному хрипу и паразиту. А парашютисты, подозрительно многочисленные незапятнанные юноши, без колебаний давали понять промеж обоснованных обличений и выдержек из букваря, на кои опирались их утверждающие речи, их этика самоотречения и насилия, их пространные нудные поучения из смеси Христа с Заратустрой, парашютисты намекали, что серией рогов я был обязан и тому нескрываемому обстоятельству, что приближаюсь к сорока, а не к тридцати.
— Пойдем, — сказала женщина. — Теперь я могу уйти. Твой друг трезвее, чем ты.
— Зеваю, но не скучаю, — с улыбкой ответил я и поднял последнюю рюмку. Я должен остаться в полном одиночестве на продолжительное время и вспомнить Кеку, сделать еще одну попытку понять безличное окоченелое тело, перебрать все, что утихло, что несколько часов назад перестало существовать от века, стерлось из прошлого, но что я могу упорно воскрешать.