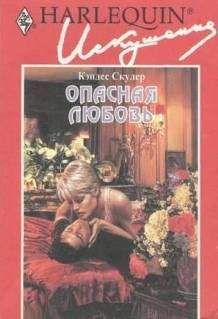Хуан Онетти - Избранное
Вся наука жизни — я находился в гардеробе «Эмпайр», полный решимости не расставаться с чемоданом, — состоит в том, чтобы с естественной мягкостью приспособляться к пустотам не зависящих от нашей воли событий, ничего не форсировать, каждую минуту просто быть.
«Отдаваться как течению, как сну», — думал я, входя с чемоданом в полумрак танцевального зала под звуки незнакомого танго — на фоне далекого фортепиано солировал бандонеон. Штейна не было ни на площадке, ни за столиками. Поставив чемодан у ноги, я заказал выпивку. Сознавая, что мне нельзя пьянеть, я чувствовал усталость своего тела, прислоненного к спинке стула, и представлял, какое выражение примет на смертном одре каждое из окружающих меня лиц; в первом приближении я разбил их на церемонные и простодушные, на лица, которые будут напряженными, сухими, жесткими, соответствуя общепринятому пониманию смерти, и на те, которые подчинятся своей участи послушно и без всякого выражения.
Погас свет, на пустую площадку упал луч прожектора, женщина в костюме тореадора, послав публике воздушный поцелуй, начала танцевать. Штейн не появлялся, Мами, как слепая корова, разложив по столу рядом с телефоном дряблое вымя, свешивает желтые крашеные волосы над планом города Парижа, itinéraire practique de l’étranger;[26] сопровождая нерешительность высоких ботиночек и стянутого корсетом маленького бюста покачиванием длинных юбок, она выбирает — от Сакре-Кёр она шла по рю Шампьонне и остановилась (тот день, как и весь мир, принадлежал ей) на углу авеню Сен-Кен, — выбирает между бульваром Бессьер и авеню Клиши, чтобы спуститься по бульвару Бертье к Порт-Мейо, обозначенному голубыми буквами, откуда подать рукой до Триумфальной арки. Тихий вечер равномерно растворялся в багрянце над левым берегом Сены и крошечным бистро между Ботаническим садом и Орлеанским (или Аустерлицким) вокзалом — этим темным и плохо проветриваемым кабачком, куда она не заглядывала так давно, что он вполне мог провалиться к антиподам, в Буэнос-Айрес, во всяком случае, уйти за пределы плана; по инерции в мягкости вечера растворялось и недавнее прошлое с его компромиссами. Мами могла посвятить начало сумерек — у ворот Клиши она погружала молодые глаза в скромный туман, поднимавшийся над изгибом реки против Аньера, постукивала по мостовой и носкам ботинок наконечником зонтика, ни разу не раскрытого с тех пор, как она осмотрела его в магазине, где он был куплен на деньги, которые заставил ее взять Хулио, и где на золотистом непромокаемом шелке показались, едва не взлетев, бабочки с блестящими золотыми крыльями и яркими, розовыми, как слизистая оболочка, вышитыми телами, — могла посвятить начало сумерек прогулке по набережной Конферанс; размахивая на ходу зонтиком, поводя плечами и чуть-чуть бедрами в ритме «Кати-балерины» (не говорил ли ей Хулио под эту музыку, что их соединяет нечто большее, чем любовь, нечто еще не названное людьми и находящееся по ту сторону этого чувства?), могла любоваться оттуда, согласно плану, Эйфелевой башней и Сен-Пьером, а если повезет, если слишком быстро не спустится тьма, то и Домом инвалидов.
Но Мами могла употребить часы, отделявшие ее от свидания с Хулио, и на сентиментальное паломничество к рю Монмартр, которую так трудно найти и которую не надо путать с Монмартрским мостом, что над бульваром Нея, над греческим портиком в зеленой глубине, обозначающей укрепления. На рю Монмартр она танцевала с Хулио целую ночь, и когда они танцевали вальс «Девушка с гор», он нашел новые слова, говоря ей о своем желании; Мами ничего не ответила, не сделала ни единого жеста, пока они не дошли до затемненного стола, где она протянула голую руку и стала умолять Хулио, чтобы он прижег ее сигаретой. Но необъяснимым образом рю Монмартр отыскивалась на плане только случайно — сразу же или во сне, который придет раньше, чем зазвонит телефон. Поэтому с относительным спокойствием, которое дается принятыми решениями, она покинула угол рю Шампьонне и авеню Сен-Кен и, заостряя свое внимание вязальной спицей, взмыла в вечно сероватое, вечно светящееся небо города Парижа (гравировка Л. Польмера, типогр. Дюфренуа, рю Монпарнас, 49) и на умеренной скорости летала слева направо, с востока на запад с отчетливым понижением к югу, от Пюто — черные буквы на зеленом поле между двумя поселками — к Альфортвилю, где Сена троится у моста Иври и пропадает, отсеченная жирной чертой, под которой написано: Stations des bateaux T.C.R.P.[27] С багряного или серого неба, паря, в зависимости от масштаба, на высоте 700 или 1200 метров, Мами рассматривала знакомые здания и улицы, свои воспоминания, приставшие к ней, как бинты. Увидела Малый дворец и сад Тюильри, кэ Малакэ и рю Турнон, музей Клюни, бульвар Сен-Марсель, пролетела над пересечением Орлеанской и окружной железных дорог, и вдруг — о удача, — когда она огорченно кривила губы над башней церкви Иври, ее глаз отклонился к зеленому пятну кладбища Монпарнас, между Обсерваторией, Нотр-Дам де Шан и Нотр-Дам де Плезанс.
Доказывая, что невыразимое чувство жизни сохраняет в ней свое постоянство и пыл — даже если Хулио за всю ночь так и не позвонит, а на рассвете ее снова разбудит зверская боль в мочевом пузыре, — Мами исколола спицей окрестности рю Верцингеторикс, где, на расстоянии полквартала от авеню Мэн, еще должен звучать когда-то слышанный ею последний гудок поезда, где в комнате с печкой посередине, которую никто из них не научился растапливать, Хулио нежно шлепнул ее по щеке, пробормотав неприличную фразу, хвалебную и оскорбительную, какую каждой порядочной женщине нужно услышать хоть раз в жизни, единственную фразу, которую стоит навсегда запечатлеть в сердце и которая своей живительной и действенной силой утешит в недобрый час: «Никогда еще не спознавался с такой отъявленной сучкой».
Аплодисменты затихли, зажегся свет, на площадку вернулись пары. Я еще раз поискал Штейна за столами, среди проходящих мимо кружащихся лиц; одна женщина, танцуя, подняла зеленые руки к гладко причесанным волосам, накрывшим ее профиль. Я выпил, разочарованно отставил стакан, потрогал чемодан ногой. Окончательно выбиваясь из сюжета и из Санта-Марии, Диас Грей был болен девушкой — теперь она явно стремилась ворваться на улицы какого-то весеннего города, непременно спиной к первому, кто ее заметит, размашистой, но неуверенной походкой, подняв одно плечо, как бы подставляя левую грудь или защищаясь от измены, — был болен ею и тискал ее, подавлял ее и уничтожался в ней, порой добивался, что время останавливалось, но это ничего не давало, кроме убеждения в невозможности унаследовать вечность. Я видел, как он увлеченно упражняется в бесполезном фокусе с замедлением шага у перекрестков в надежде, что его нагонят гибкие девичьи ноги, неожиданность робкого прикосновения к его предплечью, улыбка и молчание; видел его осужденным воспринимать любую встречу как пролог к еженедельной сцене в доме свиданий, к достигаемым в постели отрешенности, забвению, сомнительной победе над собственным бытием. А потом всегда ожидание, мучительное раскаяние. Для него были осязаемы, как предметы в кармане, движения, которые она делала, прячась от света, от гарсонов, от других пар; запах дезинфекции, переходивший из подушек в ее волосы, и новый мутный тоскливый запах, образованный смесью дезинфектанта с радостным ароматом знакомых духов; невозможность целовать ее или разговаривать в ожидании слуги, который придет за деньгами и объявит, что такси у подъезда. И так как каждое из этих воспоминаний, этих твердых и заостренных предметов означало и навязывало подполье, Диас Грей был вынужден отказываться от любви к девушке, чтобы отделить ее, отделить свою любовь от подполья, от обоюдного молчаливого согласия на мерзость и грязь, которое давалось с момента, когда они начинали к ним прибегать. И до самого расставания он больше не любил девушку; знаки подполья становились все отчетливее, оживали, сотрясаясь от энергии, ранящие, единственные в мире — единственные в темноте, в машине, которая везла их как двух незнакомых людей, — но были уже бессильны повредить тому, как он ощущал ее, поранить его любовь, потому что она не существовала. После полуночи возле спящей Элены Сала врач выкладывал на тумбочку — как наручные часы, сигареты, спички — острые предметы, полученные в подполье; он был изолирован, не связан с девушкой, жил только для символов мерзости, для принесенных с собой, невозмутимо бодрствовавших воспоминаний. Но под утро или на другой день он удостоверялся, что жить в маленьком ледяном аду, населенном боязнью света, стыдом, взглядами слуг, запахом постельного белья, снова пробивавшимся вместе с потом, невозможно. Надо было спасаться, и его тут же спасала восстановленная напряженность любви; он раскаивался в каждом раскаянии, в каждом шаге назад; предметы смягчались, дружески уступали нажиму руки, и Диас Грей размещал их, преображавшихся в представителей его любви, по соответствующим местам: освещал стены домов фарами такси и девичье лицо их отблесками, раздувал угасающее любопытство в глазах гарсонов, венчал девушку волнующей смесью духов и хлорки.