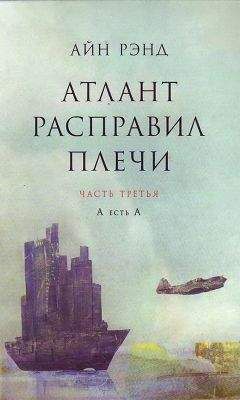Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2006)
Немецкое феодальное владычество подразумевало методичное насаждение государственных и культурных институтов, покрывающих все стороны жизни, по крайней мере внешние ее слои. Государственная и военная организация, строительство, право, художества — все было немецким, и только немецким, — никакого синтеза культур. В этой плотной, регламентированной сети институтов и отношений туземцам отводилась только одна ячейка, одна страта — безгласных крепостных. Даже средневековый гуманизм в Ливонии не сопровождался, как в Западной Европе, изучением народных наречий — эстонского и латышского. Замечательно, что преподавание эстонского и латышского языков в школе связано с иезуитами эпохи Контрреформации (их коллегии были основаны в Риге и Тарту), которые действовали в пику лютеранам-остзейцам, да и сама их деятельность была возможна благодаря поддержке польского правительства4.
Таким образом, установленный немцами феодальный режим практически полностью исключал социальную эмансипацию эстляндских туземцев. Это принуждало их уткнуться в собственный ограниченный мир — интимно-частный, который постепенно превратился в мир параллельный, скрытый. Национальная активность и зарождение национального самосознания начались только в середине XIX века, тогда же пришло и самоназвание: Eesti, тоже германского происхождения (но восходит к римским источникам)… Свой камерный мир — это тот мир, где ты свободен, мир, недоступный для иноземцев, населенный тенями предков и таинственными легендами. Мир, где ты хозяин. Где ограниченное число вещей, пребывающих в твоем безраздельном господстве, приобретает максимальное антропологическое значение.
Итак, этот утрированный res -принцип Эстонии — откуда он? От немцев, с их культурными установками на борьбу с хаосом, на технологическое освоение мира? (Как иронично отмечал Довлатов, за Нарвой «природа выглядит менее беспорядочно».) Или это вынужденное обращение к микромиру крестьянского космоса, к малому ландшафту, к частному быту, в то время как все остальное — политические и культурные сферы — оккупированы иноземцами?
Кстати, уникальность Лифляндии состояла и в том, что там едва ли не до конца XIX века сохранялись цеховые и корпоративные институты и привилегии — реликты Средневековья, в Европе уже давно уничтоженные революциями. Они долго сдерживали развитие собственно эстонского предпринимательского класса. И все же благодаря этому в Эстонии сложились модели буржуазно-корпоративной организации, цехового и артельного, муниципального и общинного взаимодействия. В начале XX века здесь свершилась настоящая национальная революция, правда мирная и незаметная: городское самоуправление в Таллине и Валга впервые перешло к этническим эстонцам. Эстонский мир в виде государства со всеми атрибутами собирался как конструктор, по готовой схеме. Остзейская система социальных, культурных, производственных и правовых форм и опыт хуторского менеджмента ограниченного быта, опыт соседской солидарности в условиях немецкого давления составили ту критическую массу, которая позволила практически из исторического небытия создать Эстонию как нацию в классическом смысле.
5. Республика/Vabariik
Одну из комнат дворца переделали на эстонский вкус. Когда глава государства отдыхал в замке, над дворцом развевался эстонский сине-черно-белый триколор. С башни открывалась чудесная картина — река, залив, парк. Великолепная терраса с балюстрадой, сохранившаяся и поныне, огибала фасад. В каменной беседке президент пил по утрам кофе с калачом и шуршал газетами.
В. Илляшевич, Ю. Шумаков, «Эстляндские были».
Мы привыкли к тому, что государственная граница окрашена особым суровым пафосом. Но эта мифологема на самом деле — позднейшего происхождения. «На границе тучи ходят хмуро…» — это мотивы сталинской пропаганды, идеологии осажденного лагеря и конфронтации с буржуазным миром. Переход границы — преступление, измена Родине. Защита ее — особое призвание, исключительная, героическая функция. Между тем для русского океана граница не имеет такого значения. На протяжении нескольких столетий русские распространялись вширь, постепенно осваивая новые земли, преодолевая в основном естественные, ландшафтные пределы. Даже четкой границы исторической России не существует. Степь в этом смысле — вполне точная метафора, предполагающая принципиальную неоформленность, негеометричность. И степь — это не столько много своей территории, сколько широкие возможности бегства, ухода, ускользания.
Но res -культура и эстонская домашняя, камерная модель мира, конечно, предполагают особый смысл границы. Граница — это форма, это защитная оболочка. Это необходимость, без которой строительство своего мира, менеджмент вещей будет идти вхолостую, в пустоту. Эстония начиналась с частных границ, с феодальных границ, границ вокруг замка, мызы, с крестьянского надела. Помещенная в прореху между двумя стихиями (море и Россия), она формировалась как проекция частного до естественных, резонных пределов. Скажем так: хорошему хозяину, чухонскому крестьянину, для полного счастья не хватало на дворе армии, флота, театра оперы и балета и картинной галереи — то есть всего того, что составляет национальное государство. Ограждение своего мира от внешнего, кромешного хаоса, от чуждой стихии — это магия, магический ритуал; наверное, только для Эстонии эта архаичная мифологема еще столь актуальна; черта, проведенная по земле, еще таит в себе магический смысл. Вся драма становления эстонского мира — это драма очерчивания, отгораживания…
Советская Эстония, порвав с Москвой, провозгласила преемственность с Первой республикой 1918 — 1940 годов, точнее, восстановление оной. Как известно, по Юрьевскому (Тартускому) мирному договору 1920 года в состав первой Эстонской Республики вошел русский Печорский край — древний Изборск и Псково-Печорский монастырь, обросший слободой и ставший крепостью еще при Иване Грозном. Впоследствии, после освобождения этих мест от гитлеровской оккупации в 1944 году, эта территория была вновь присоединена к Псковской области в виде Печорского района. Современная Эстония до последнего времени при совершенной безнадежности дела лелеяла эту рану: требовала назад утраченные земли Печорского уезда — уезда Petserimaa. Это стало своеобразной Стеной Плача, пеплом Клааса. Эстонские активисты в 90-е годы даже пробирались на российскую территорию и выставляли пограничные столбы по линии старой границы. Что это: то ли перформанс, то ли магический акт?.. Проводились какие-то общенациональные акции «Как живешь, Петсеримаа?». Этот кусок земли, который никогда не входил в историческую Эстонию и, даже напротив, хранил в себе убедительные свидетельства своего древнего славянского прошлого, оказался для эстонцев как бы куском вырванной плоти5.
Конечно, такой жанр, как плач по утраченным землям, — один из приемов национальной мобилизации, к тому же обычный дипломатический ход: в обмен на отказ от территориальных притязаний можно выговорить себе что-нибудь другое. Эстонское правительство российскому так и предлагало: мы отказываемся от нашего Петсерского уезда, а вы соглашаетесь взять за основу в наших отношениях Тартуский договор, в котором Советы признавали независимость Эстонии. Из этого факт оккупации вытекает сам собой — эстонцы признания этого факта и добиваются: в будущем это исключает возможность каких-либо притязаний со стороны РФ к Эстонии как бывшей союзной республике. У эстонской стороны остается надежда, что Россия как правопреемница СССР в конце концов вынуждена будет расплачиваться за советскую оккупацию. Так что это — обычный пример политического прагматизма.
И все-таки в этом пафосе вокруг Petserimaa есть своя подлинная психология, своя национальная драма. Единожды вовлеченное в эстонский мир, в мир эстонских вещей и объектов, становится эстонским навечно — остается в коллективной памяти, овеяно ностальгической дымкой. Оно прошло ритуал магического посвящения в эстонское. И даже православный русский монастырь, который хотели переименовать в Петсерский, и русская крепость Изборск (в эстонской транскрипции Irboska) — ведь это навечно часть Эстонии — той, прекрасной, юной, в ностальгическом стиле ретро, чудесно возникшей из небытия между двумя мировыми войнами…
В конечном итоге это превратилось в театр, в параллельный мир условностей. Так, если в современной Эстонии неэстонцу, потомку советских поселенцев, получить гражданство весьма непросто, нужно сдать достаточно сложный экзамен на знание государственного языка, то нынешние жители Печорского района или, скажем, Пскова, чьи родственники в свое время жили в Печорском уезде в момент передачи его Эстонии, получают эстонский паспорт автоматически. Таков закон Эстонии: гражданство автоматически получают все потомки эстонских граждан. Тогда, с вхождением в 1920 году Печорского края в состав Эстонии, все его жители, в основном русские, сразу получили гражданство. Теперь достаточно принести в псковскую канцелярию эстонского консульства справку, по которой ваш дед владел землей или платил налоги на территории Петсеримаа, и вы получите когтистый-клыкастый (с тремя львами) эстонский паспорт. Среди жителей Печорского района, простых селян великорусской народности, таких граждан Эстонии полно. По-эстонски они не говорят, знают разве что эстонское слово viisa — это то, что им теперь не нужно, чтобы ездить в Эстонию к родственникам. Кроме того, эстонское правительство выплачивает еще и денежные пособия. Причем закон Эстонии двойное гражданство запрещает. В российских приграничных волостях таких мнимых эстонцев до 70 процентов: эстонское правительство в этой процедуре очень щепетильно и свои обязательства перед усопшими гражданами Первой республики выполняет, несмотря на нелепость ситуации и явно меркантильный интерес к эстонскому гражданству со стороны обитателей российского пограничья. Но зато какое глубокое моральное удовлетворение должно приносить это соблюдение формы, ритуала, эта связь с прошлым через юридическую магию! Пусть так, в символической форме, но подтвердить полноту Первой республики, ее территориальную, вещественно-геометрическую цельность.