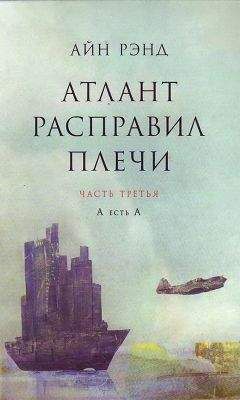Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2006)
Освальд Шпенглер, которому не откажешь в даре обобщать культурологические наблюдения, видел прасимвол русскости в бескрайней равнине. Корбюзье, посетивший Афон в начале прошлого столетия, описывает в своем «Путешествии на Восток» русских иноков, «прибывших из русских степей», — настолько стойки стереотипы даже в двадцатом веке, когда неевропейский мир был уже тщательно исследован. Этот стереотип не случаен: бесконечность пустынной равнины — действительно удачный образ русской иррациональности, масштаба и радикализма экзистенциального и социального опыта, отсутствия чувства пропорций и меры. Александр Сокуров после своей поездки в Японию описывал, как японцы локализуют себя в мире: «Вокруг нас — океан», — говорят они. У нас, у русских, добавил он, океан — внутри. Поэтому дело обустройства собственного социального пространства у нас, видимо, воспринимается как дело безнадежное и тщетное: за порогом собственного дома начинается тот хаос, который можно бесконечно осваивать, завоевывать, покорять, захламлять, — бесконечность и останется бесконечностью, и природа чуждого нам хаоса, лишь пересекаемого абстрактными горизонтальными направлениями, а не дорогами, никогда не изменится.
Так вот, продолжая этот ряд, Эстония — нечто противоположное: замкнутое организованное пространство, стремящееся к предельной концентрации «домашней, интимной» субстанции в четко очерченных границах. Все жители приграничной великорусской полосы в один голос и в одних и тех же выражениях передают впечатление от пересечения границы с Эстонией (при СССР как бы не существовавшей): сельские подворья, дороги, поля, даже лес несут на себе отпечаток упорядоченности, любовного внимания. Отношение к автобусной остановке такое же, как к домашней гостиной. Нет границы между домом семейным и домом общественным, миром локального сообщества: замкнутое и исторически уязвимое пространство Эстонии не имеет лакун периферийности: все сгущено, сконцентрировано, насыщено значимостью, вещностью, небезразличной человеку материальностью. Семейный дом, хутор плавно переходят в локальное соседское сообщество, из локальных сообществ, исторически сложившихся местностей с их неповторимой культурно-ландшафтной физиономией, складывается дом-страна.
Эстонский мир, несмотря на рафинированную урбанизацию, — это изначально крестьянский микрокосмос. В центре его — дом, деревенский двор, хутор. Это не отвлеченный дом, сотканный из ностальгических образов, — это материальное, осязаемое пространство, имеющее свою органическую структуру, — это вещественная и в то же время личностная субстанция. Эстония преимущественно все-таки аграрная страна, хотя в советском мире была образцом особого шарма и стиля европеизированной городской культуры. И хуторская система — это не только такая организация сельскохозяйственного производства. Это очень интимное восприятие своего личного, семейного пространства, незаметно переходящего в природный ландшафт, который тоже есть часть дома. Жилой дом и все его части от чердака по погреба, амбар, конюшня, сад, поле — все это тонкая оболочка крестьянского Я, его макротело, лабиринты его души. Эстония в старину и называлась по-крестьянски: Маа — то есть просто «земля», а подлинное самоназвание эстонцев maarahvus — «народ земли». Так исторически сложилось, и должно было сложиться, что проекцией этого мира далее вовне и продолжением этнического Я стало этническое эстонское государство. Это тоже интимная оболочка эстонца: то пространство, которое дает ему ощущение законченности его домашнего мироздания. Маленькая, домашняя модель мира.
Одна из любимых моих книг в детстве — «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» Эно Рауда: это очень, очень эстонская книга. Путешественники (а путешествие — главнейший, архаичный мотив литературы) путешествуют там в красном автомобиле-фургоне, который одновременно является домом Муфты. Самым настоящим домом: занавески на окнах, холодильник, стол и проч. Порядок, уют… Муфта — обыватель, а не бродяга. Спасаясь от одиночества, он пишет письма себе и получает их в каждом городе, переезжая с места на место. Путешественники, маленькие сказочные человечки, колесят, кажется, в пределах одного и того же замкнутого мира. Там есть все — города, дороги, леса, реки, мосты. Но леса не бескрайни, дороги не бесконечны, города не огромны: все подогнано под пропорции частного человека, даже маленького человека. Кажется невозможным покинуть этот сказочный и одновременно обыденный мир, дружественный и уютный. Этот сказочный мир и есть Эстония. В одном городе жители страдают от крыс, которые развелись в подвалах домов: даже инфернальные, кромешные миры оказываются домашними и обыденными. Спасением стали коты, которых путешественники заманили в город с помощью игрушечной мышки. Последовала «великая битва» котов с крысами, и вот наших героев чествуют как избавителей органы местного самоуправления. Так даже эпические столкновения происходят как-то камерно, внутри обывательского мира. Но этот обыденный мир, с обыденными деталями — как будто заколдован, скрывает в себе тайны, тени, темные ниши, правда, не очень глубокие. И не нужно никаких великорусских «тридевяти земель», чтобы жизнь волшебно раскрылась во всей ее многоплановости, в разнообразии ее сюжетов… Поэтому фразу «маленькая, домашняя модель мира» (об Эстонии) не должно воспринимать как высокомерную иронию представителя «имперской нации». Это не ирония, это восхищение, близкое детскому: настоящее государство, настоящие парламент, конституция, армия, железная дорога, Академия наук!.. Казалось бы, после обретения второй Независимости опасность для маленького эстонского мира уже миновала, — и все-таки мерещится, что все может исчезнуть: слишком велик шок 1940 года (и после) и слишком хрупок и сказочен этот мир. Сюжет с крысами в детской повести Эно Рауда выявляет этот глубокий страх. В этом жутковатом, хоть и пародийном образе бытового апокалипсиса явлен преследующий эстонскую душу кошмар, действительно грозящий стать социальной, исторической реальностью, — кошмар обыденной, прозаической гибели от бытовой катастрофы как случайного результата Большой Истории.
3. Художник/Kunstnik
Голландец Кейс Верхейль, филолог, специализирующийся на русской литературе, писал в свое время, что все культуры делятся по принципу преобладания двух начал. Есть культуры, основанные на идее слова — логоса, и культуры, основанные на идее вещи, дела, действительности — всего того, что на латыни называется res. Вероятно, считает Верхейль, возможность такого разделения связана с разделением Европы на ее византийскую и римскую половины. Далее он добавляет: «Русская идея, мне кажется, такая, что логос порождает действительность, а не наоборот». Свою голландскую культуру он относит к ярко выраженным res -культурам. Именно поэтому Нидерланды для него — это преимущественно страна великой живописи, «при относительном отсутствии интересной литературы»2.
С этой точки зрения едва ли найдется другая страна с более развитым res -принципом, чем Эстония. Неправильно было бы этот принцип сводить лишь к технологическому прагматизму. Это скорее универсальный стиль мировосприятия, обращения с реальностью. В основе любой культуры лежит умение видеть и слышать — и облекать полученную эссенцию в видимые или слышимые формы. Культура — это всегда система метафор, а метафора может быть музыкальной гармонией, словом или символом, то есть зрительным образом — очертаниями, вещью. А в случае эстонской культуры это даже не столько зрительный, сколько ощущаемый почти физически, тактильный, плотный образ.
Эстонское начало, кажется, лучше всего себя находит именно в изобразительном искусстве, хотя на первый взгляд эстонская художественная культура лишь повторяет на провинциальном уровне периоды общеевропейского стиля (впрочем, даже величайшие европейские культуры так или иначе подражательны). Экспрессионизм, суровое порождение германского духа, пожалуй, более всего подходит для выражения эстонского мироощущения. Именно не легкомысленный и более поэтичный, музыкальный импрессионизм, а экспрессионизм — рациональный, настойчиво проникающий за покровы мира и в то же время более драматичный внутренне… Эстонские живопись и графика русскому глазу могут показаться какими-то удушливо-камерными, мрачными, с характерным обилием плотных теней или контуров. В них есть какая-то близорукость, пристальное разглядывание стереоскопической формы вещей, но этим-то эстонское искусство и завораживает. Вещи и фигуры обладают величайшим внутренним напряжением. Это не живая, подвижная ткань мира, а объекты . Или, пользуясь компьютерной терминологией: это не пиксельная, а векторная графика. Эта напряженность, концентрация энергии в вещах, обыденных предметах даже деформирует мир в эстонском искусстве, многое в нем нам кажется сухо-схематичным, сдавленным, даже патологически гротескным. Во всяком случае, эти лаконичные композиции, эти плотные и отчетливые объекты и что-то еще неуловимое, минорно-эстонское создают у зрителя какое-то щемящее, непередаваемое чувство. Не в этой ли сгущенной, меланхоличной графичности заключено и обаяние самого известного эстонского художника — Соостера (Ьlo Sooster)?.. Таким образом, эстонское видение мира — это скорее гравюра или контурный рисунок, может быть, с тонкой штриховой тонировкой. Или линогравюра: плотные «векторные» объекты… В целом и в живописи, и в литературе — холодность, сдержанная эмоциональная динамика при высоком внутреннем напряжении.