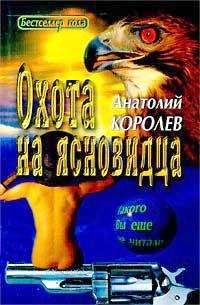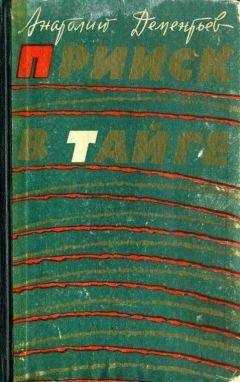Анатолий Королев - Эрон
— Нет.
Блот улетал утром.
— Вижу, что ты провернул выгодное дельце. Бедная Россия, тебя опять обокрали. Пей до дна за удачу. Ты наваришь на своем преступлении сотню лимонов.
От шлюхи ничего нельзя скрыть, а ведь еще минуту назад Марсель Блот считал свое лицо абсолютно непроницаемым для чужих глаз, и он чуть дрогнул:
— Да, можешь меня поздравить, я совершил самое удачное преступление в своем бизнесе.
— Поздравляю, подлец. Никогда не сую нос в чужие дела. Но прости, никак не могу раскусить, чем ты промышляешь. Ты — необычный человек. Это ясно. У тебя в руках очень редкое дело… Наверное, ты способен победить рулетку. Не пробовал?
— Нет, — то же самое говорила ему Женевьева.
— Попробуй. Рискни, Париж. Ты так чуток, что переиграешь все колеса в своем Монте-Карло. Клянусь. У меня собачий нюх на такие дела… Признайся, чего ты морщишься?
— Признаюсь — тот тип через два столика дурно пахнет.
— Он что, навалил в штаны?
— О, нет. Он смешал два сорта туалетной воды «Роша». От него несет не дерьмом, а бездарностью…
Тут подали горячее. Вид блюда был по-азиатски дик — на круглом подносе в оборке кудрявых салатных листьев высился башней натуральный тетерев! Блот растерялся, не понимая, каким образом есть эту птицу в перьях. Он даже трусливо тронул ее изумрудное оперенье вилкой, под смех проститутки. Тетерев оказался всего лишь чучелом-крышкой, прелюдией для разжигания адского азиатского аппетита. Но вот птица поднята… и надо же! темное перепелиное мясо оказалось приготовленным по всем канонам поварского искусства: дичь тушили с добавками шпига, перепел был пропитан бульоном фюме, и ежевично-клубничный соус в фиале был в самый раз: в меру кисло-сладким, не густым и не легким, а чуть оторванным от донца. Правда, Блот ограничился двумя-тремя клевками вилки. Он ел как всегда, закрывая глаза, чтобы лучше слушать музыку вкуса, — раздувая ноздри и шевеля ушами, эстет, черт возьми!
— Конец света! — расхохоталась проститутка, — спорим, ты — нюхач. Ты дегустатор. Ты будешь меня нюхать, пока не кончишь. Знаю, был у меня такой чокнутый.
Но Блот не был маньяком.
Между тем сама шлюха уже заканчивала ужин — время деньги! — отодвинула вазочку с остатками грейпфрута с ванильным мороженым и сноровисто принялась за кофе с крохотным воздушным пирожным в сарацинском тюрбанчике из алого крема:
— Открой глаза, — злилась она, — ты еще не сошел с ума, гастронос? Жизнь так срано воняет.
Она вновь попала в самую точку мишени; и Блот вдруг испытал наплыв вожделения, как мальчишка, не знающий женщин. Он открыл глаза и, отложив приборы, взял накрахмаленную салфетку.
— Да, утонченность — это проблема, — парфюмер был задет и взял самый раздражительный тон; кроме того, приступ похоти он посчитал умалением своего совершенства, — порой жизнь действительно воняет адски, но зато ты способен различать тысячи оттенков там, где профан от силы различит один-два тона. Посмотри на эти руки. Мои пальцы обладают чувствительностью мимозы. Я легко мог бы стать карточным шулером. Еще в детстве я пугал кузину, отгадывая с закрытыми глазами любую карту в нашей домашней колоде. Мне было достаточно перед сеансом испуга обмакнуть пальцы в спирт, чтобы убрать малейшие следы жира, и это уже не пальцы, а глаза. Конечно, предварительно я помечал колоду нажимом ногтя. Достаточно раз царапнуть по лицевой рубашке карты, чтобы палец легко различал тот шероховатый бугорок. Или сделать ризку по острому ребру колоды. Одна ризка — туз, две — король. И так далее. Кузина заматывала мне голову черным шарфом, но я видел в темноте как при свете. Пальцы запросто читали шершавую пилку по краю карты. В колледже мне прочили карьеру карточного шулера, но я потерял всякий интерес к рукам. Я обнаружил тогда, что мое обоняние гораздо тоньше — я мог совершенно непонятным образом узнавать карты знакомой мне колоды просто по запаху… Каждое лето мы проводили на вилле Дюбу, под Картахеной. Это на берегу Карибского моря. В тропиках моя детская чувствительность обострялась настолько, что жить я мог только ночью, когда все краски и запахи погашены. Никто не понимал, что со мной происходит. Но даже ночью цвета и запахи были пригашены только не для меня. Я выходил на балкон. И в полном мраке, в густом тропическом дегте свободно любовался оперением двух попугаев ара, спящих на шесте в глубине патио. Я различал каждый цветовой перелив крыл в темноте. А носом чувствовал, как вязко пованивает нафталином атласный цветочный клопик на листве гевеи. Как по каменному желобу вдоль патио, кисля воздух, ползет старая ночная игуана. Б-ррр… вся в ядовито-зеленых крапинах, как в ее мокрой открытой пасти гаснет капелью слабого йода ночная мошкара. Мой нос обладал магической силой. Чтобы перебить кислоту игуаны, я отдыхал, отворачивая нос в сторону пылящей в ночи дождевой установки в нашем саду, очищая ноздри от крапинок йода запахом свежей воды. Больше того! Стоя на балконе, я во всех подробностях чувствовал, как моя мать изменяет моему отцу в столовой на третьем этаже. Как постепенно фиалковый нежный запах ее голого тела тонет в потном бриолине молодого слуги Эдуарда Силвы, как воняют ваксой его начищенные ботинки. Никто не видел моих слез!
Только тут Блот наконец спохватился — кажется, впервые в жизни он рассказывает о себе столь интимные подробности. И кому? Проститутке. И где? В варварской Москве. Он замолчал и резко подвел черту под сентиментальным приступом:
— Мне казалось, что русским не хватает тонкости. Но еще пи одна француженка так быстро не раскусила меня. Я привык быть для всех серьезной загадкой. И вот номер! Ты шла по следу, как хорошая гончая по следу зайца. Браво! Пора, наконец, нам представиться друг другу. Зови меня Марсель.
— О’кей, Париж!
— А как мне вас называть, монашка?
— Сегодня меня зовут Роша, — сказала Любка Навратилова.
Да, это она — падшая младшая сестра старшей. На календаре январь 1984 года. Наступает високосный год мыши. Москва задута теплой снежной зимой. В моде сапоги после лыж — сверкающие космическим серебром финские дутики. Цвет космоса — самый модный цвет времени. Перед Новым годом умер Теренс Хигинс — первый официальный британец, скончавшийся от спида. Мир обсуждает речь президента Рейгана, объявившего Москву империей зла. Сегодня ночь перед рождеством — 6 января — ночь, когда силы зла особенно шалят: Любке Навратиловой младшей осталось жить всего лишь до утра.
Книга самцов
Любка решила стать валютной проституткой сразу же после самоубийства Франца Бюзинга, два года назад, решила абсолютно трезво, с холодной решимостью выбора и без всяких нравственных гримас. Она устала от полунищеты, от штопанья колготок. Наконец, она была эффектнее сестры старшей, но жила в тысячу раз хуже, у черта на рогах, в случайных комнатах случайных коммуналок. Может быть, именно чувство униженности и зависти заставило ее сделать все, чтобы брак распался и Франтик достался бы Любке как приз. Но жизнь с ним обернулась кошмаром. В том числе и кошмаром нищеты. Она осталась одна без всяких надежд на судьбу. И нее же у Любки был мостик в новую жизнь — Галя Браззрванович по прозвищу Марлен: стареющая проститутка, возраст которой уже мешал снять клиентов, но не мешал стать первым в Москве сутенером женского пола. У Марлен уже были в лапках две классные девочки, которым снимались квартиры, она искала третью и еще при живом Бюзинге дважды откровенно соблазняла Любку перспективами продажной жизни и щедро ссужала валютой в самые отчаянные дни. «Потом отдашь». Любка, признаться, восхищалась железной волей Марлен. В этой пусть стареющей, грузной, но безумно шикарной даме распознать былую шлюху совершенно невозможно. Черная пантера в норковом манто с глазами из берилла! Чертовски умна, нахраписта и элегантна. А знание языков! Кстати, именно знание английского и французского было решающим условием усатой бандерши: недаром Любка страстно учила языки с семи лет, и все жалкие деньги мать тратила на репетиторов, носителей языка. Киска, ты рождена блядью, умоляла Марлен. Ее цинизм восхищал.
Именно утешения своей черствости искала у Марлен Любка в те гадкие дни, когда Франц покончил с собой, а она мучилась тем, что его ей нисколечко не жалко. Я — чудовище, плача, признавалась Любка старой проститутке, мне его совершенно не жаль, говнюка. Как это было? вздыхала Марлен. Выбросился из окна на девятом этаже. Накрасил губы по-блядски, подвел глаза, как педик. Взял в одну руку сардельку с горчицей, в другую — зонт. И сиганул. Марлен процедила сквозь зубы: клоун. Такого не жалко.
Кончилась, кончилась одиссея Улисса с фальшивым горбом.
Холодное презрение Бриззрванович успокоило Любку, впрочем, она жалела только хромых собак. В тот роковой день они обо всем и договорились: Марлен снимает ей шикарную квартиру в центре. Одевает с ног до головы в фирму. Дает каждые сутки своего шофера с машиной на два часа… — косметику, массаж, бассейн и парикмахера Любка берет на себя. И главное — Марлен вводит ее в высший свет валютных проституток Хаммеровского центра, обеспечивает крышу в ресторанчиках отеля, поддержку барменов, официантов, метрдотелей, швейцаров и охраны. Заслоняет от Гэбэ. Каждый вечер я ночь у Любки будет на всякий случай свой оплаченный номер. Брать только валютой. Такса за одну палку —150 долларов. Это минимум. Рублевых фраеров посылать на три буквы. Выручку делить пока так: семьдесят процентов — Марлен, остальное себе. Если дело пойдет — пятьдесят на пятьдесят. И не бздеть!