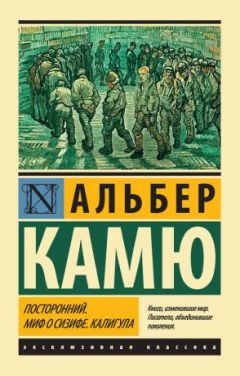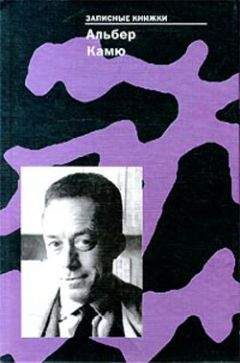Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Наташа засмеялась, напряжение спало.
2
После ноябрьских праздников начальник КВЧ вызвал к себе Осю, сказал, что очень доволен её работой, и объяснил, что теперь она будет штатным лагерным художником.
– В ваши обязанности будет входит следующее, – покачивая носком блестящего скрипучего сапога, перечислил он. – Изготовление агитационных материалов к праздникам, обновление лагерных номеров на одежде заключённых, изготовление табличек для трупов.
– Каких трупов? – не веря тому, что слышит, переспросила Ося.
– Трупов заключённых, умерших естественной смертью или застреленных при попытке побега, – пояснил он всё так же сухо. – Жить вы будете по-прежнему в бараке, но выходить только на третий развод.
Ося молчала, глядела на него во все глаза.
– У вас есть вопросы? – поинтересовался он, нахмурившись.
– Я не буду писать таблички на трупы, – тихо сказала Ося.
– Вы понимаете, чем рискуете? – всё так же ровно, не удивляясь, спросил он.
Ося не ответила, она просто не знала, что можно ему сказать.
– Можете быть свободны, – сказал он, не глядя на неё.
Утром на разводе Осю вызвали на лесоповал. – Размазня ты, – сказала Танька. – Не умеешь зацепиться.
– Да при чём тут я, – вяло возразила Ося. – Просто праздники кончились, нужды во мне больше нет.
– А ты бы сама придумала. Сказала бы, что 23 Февраля скоро или там 8 Марта. А то бы плакат за чистоту изготовила.
Ося пожала плечами, объяснять не хотелось, да и вряд ли смогла бы она объяснить.
– Вы же работаете, – сказала она, – и ничего.
– У нас выбора нет, – разозлилась Танька. – У меня бы выбор был, в тёплое местечко пристроиться или на лесоповале вкалывать…
– Пристроилась бы, от нас бы ушла, – вставила Наташа.
– Может, и вам бы ещё помогла, ежели бы получилось, дуры бестолковые, – совсем уже рассердилась Танька.
Сердились они друг на друга всё чаще и чаще: выматывала тяжёлая работа на морозе и угнетало постоянное чувство голода. Голод присутствовал неотступно, превратился в несменяемый фон их жизни, не проходил, даже когда они ели, и пайка с пугающей быстротой приближалась к концу, не принося ни сытости, ни удовольствия. Ося переносила голод легче других, видимо, сказывалась киевская выучка, но и её не оставляло тянущее, сосущее чувство, словно кто-то зажал все её внутренности в кулак и не отпускает. Почти каждое утро из барака выносили людей – кого в больничку, а кого и прямо к ограждению.
Началась эпидемия пеллагры, по лагерю бродили толпы отёчных, вялых, плохо соображающих людей, для которых не было места в больнице, но и на работу их гнать не имело смысла. К тяжёлому барачному запаху примешался новый, острый, химический, мешавший Осе спать. Это кетоны, объяснила Осе соседка по нарам, они так пахнут, когда расщепляются в печени, когда голодающий организм начинает поедать сам себя. Ося глянула удивлённо, женщина сказала: «Я профессор физиологии Казанского университета. Что, не похоже?»
Лагерь не выполнял план, начальник бесновался на поверках, призывал выполнить и перевыполнить, угрожал добавить срок, снизить паёк, обещал снизить срок, повысить паёк – не помогали ни палка, ни пряник. Угрюмые, голодные, оборванные женщины вяло тюкали топорами, с трудом удерживая их в руках, вяло возили туда-сюда двуручными пилами, не в силах ни пропилить до конца, ни вытащить пилу из запила. Счастливчиков спасали посылки. Из них троих посылки получала только Танька, Ося с Наташей деликатно отходили в сторону, когда она вскрывала свой ящичек, укрывшись одеялом от марух и прочих желающих поживиться. Танька продолжала честно делить на троих всю присланную еду, но Ося замечала, каким взглядом провожала она каждый отданный кусок. Самой Осе иногда подкидывали хлеба уголовницы, желавшие отправить домой или подарить сердечному другу портрет. Но таких становилось всё меньше, даже уголовницы с трудом добывали пропитание, к тому же многих Ося уже нарисовала.
В декабре прошёл слух, что сняли Ежова.
– Вот видите, – обрадовалась Наташа, – правда есть. Его расстреляют. А нас отпустят.
– Хорошо бы, – с сомнением протянула Танька.
Ося была уверена, что лучше не станет, потому что не в Ежове дело, но промолчала, не желая лишать подруг пусть крохотной и недолгой, а всё же надежды.
Оказалось, что надежда была не пустой. В январе тридцать девятого в лагерь нагрянула комиссия. Откуда она взялась и с какой целью прибыла, никто не знал, и по лагерю поползли фантастические слухи, что председатель комиссии – то ли племянник, то ли двоюродный брат Сталина (другие говорили – Ленина), что лагерь расформировывают, потому что начинается война с финнами, что отбирают людей для работы в секретном проекте.
Через неделю после приезда комиссия начала вызывать заключённых на беседу. Оптимисты уверяли, что их отпустят, пессимисты были уверены, что расстреляют. Вызвали и Осю, спросили, сколько ей выдавали вазелина как средства от обморожения. Ося засмеялась. Спрашивавший, мужчина в военного покроя френче, но без петлиц, сказал сухо: «Ясно. Можете быть свободны». Комиссия провела в лагере месяц и уехала. Через неделю им объявили, что повышают пайки, даже тем, кто не выполнял нормы, выдали новые валенки тем, у кого совсем развалилась обувь, и добавили ещё одну комнату в лазарете.
– Я была права, – заявила Наташа. – Вот увидите, нас скоро отпустят.
Глаза у неё блестели, на щеках горел непривычный румянец.
– Ты как себя чувствуешь? – поинтересовалась Ося.
– Нормально. А почему ты спрашиваешь?
– Мне показалось, у тебя температура, – дипломатично ответила Ося, а недипломатичная Танька добавила:
– Да потому, что ты лыбишься без причины вторую неделю. И шляешься неизвестно где каждый вечер. Ты, часом, стучать не начала? Да ладно, не обижайся, это же шутка.
Наташа всё-таки обиделась, надулась, отвернулась к стенке, Танька подмигнула Осе, Ося задумалась.
Наташа вдруг села, сказала жалобно:
– Я не хочу, чтобы вы так обо мне думали, даже в шутку.
– Тогда колись, – предложила Танька. – Рассказывай.
Наташа покраснела, тряхнула головой, засмеялась.
– Ну! – прикрикнула любопытная Танька.
– Я влюбилась, девочки, – шёпотом сказала Наташа.
– Во даёт, – восхитилась Танька. – Кого нашла-то, когда успела?
– Помните, я в медпункт бегала на перевязки, нарыв у меня на руке вскочил?
– Во врача? – ахнула Танька. – Во Владимира Сергеича?
Наташа кивнула.
– А он что?
– Он тоже.
– Да он вроде женат?
Наташа перестала улыбаться, спросила сухо, с вызовом:
– Ну и что?
– Ничего, – пожала Танька плечами. – Мне-то что, просто спросила.
Легли спать. Ося укрылась с головой, чтобы не видеть постылый барак, и принялась думать о Янике, вспоминать его голос, его руки, его глаза, его запах. Четыре года его не было рядом, но легче ей не становилось, невозможно было привыкнуть к разлуке.
– Ты меня осуждаешь, – вдруг прошептала Наташа ей в самое ухо.
Ося не ответила.
– Я вижу, осуждаешь, – быстро, лихорадочно заговорила Наташа. – А ты не суди. Ты пойми. Мне двадцать четыре, у меня никогда ничего серьёзного не было, я всё откладывала, всё думала, вот институт кончу, сестру на ноги поставлю. Ты пойми, Оля, если завтра на меня бревно свалится, я так и умру и ничего не узнаю. У тебя был муж, тебе проще, тебе есть что вспомнить. Я тоже хочу, чтобы было что вспомнить. Да, лагерь, и грязь, и вши, и я страшная, но что же делать? Я больше не могу ждать.
– Я не осуждаю, – сказала Ося. – Я завидую.
– Чему?
– Тому, что он рядом.
К весне от Осиного этапа, от прибывших вместе с ней из Котласа женщин едва ли осталась половина. Истощённым, обмороженным, потерявшим надежду людям не помогали ни увеличенный паёк, ни новые валенки. План опять не выполнялся, и начальство мобилизовало местных крестьян с их же лошадьми. Наташин друг, расконвоированный, как многие врачи, рассказывал страшные вещи: как лагерь забирает себе сенокосные угодья, как больные анемией [52] лагерные лошади заражают крестьянский скот, как семью с детьми выкинули из избы, а сруб перенесли в лагерь – расширяли жильё начальнику лагпункта, к которому приехала жена. Наташа пересказывала Осе с Танькой, спрашивала в тоскливом недоумении: