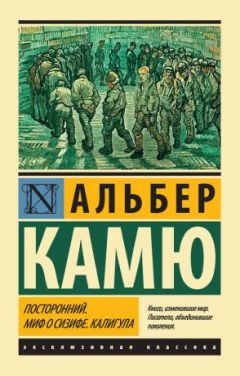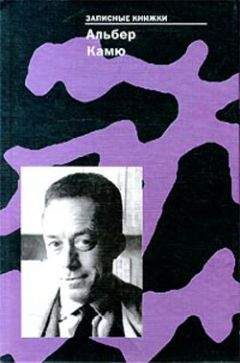Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Ты что, умом тронулась?
– Нет, – говорит, – просто не хочу всю жизнь прятаться. Не хочу, чтобы их правда вышла.
А я говорю, закричала аж, совсем от злости забылась:
– Да что ж, здесь, на нарах, с урками, – здесь твоя правда, что ли?
– Да, – говорит, – здесь есть и моя.
Смотрю я на неё и вижу: упёрлась, я уж характер её вызнала, не переспорить её сейчас. А ждать нам никак нельзя, после пожара дознание начнут, строгости добавят, а то и вовсе по другим лагерям разошлют. Спрашиваю, последнее твоё слово? Она на меня смотрит, белая вся, ровно полотно белёное, ни кровинки, но говорит твёрдо.
– Вам тоже не надо бежать, – говорит, – не выйдет из этого толка.
– Ладно, – говорю, – спасибо тебе, подружка дорогая, за помощь, за веру, за любовь. Больше, видать, не встретимся.
Она мне вслед кричит: «Постой, послушай!» – но у меня тоже характер есть, не возвернулась.
Так и ушли без неё. Лена Лёву своего притащила, он стал десятый. А как уходили мы, как под проволоку лезли, Андрей уж давно подкопал, ещё двое заметили да прицепились к нам: уголовник один, Колька Ножик, и Виталик, что на фронт всё просился. Так и пошли, двенадцать человек. Повезло нам, ветер с утра задул сильнющий, собаки по ветру-то плохо след держат, да, видно, и не сразу хватились нас из-за пожара. Словом, ушли.
Искали, конечно, всегда ищут, но после пожара не до нас им было, думаю, в сгоревшие списали – что им зря стараться, они уж опытные, знают, что, ежели не помёрзнем, либо с голода помрём, либо местные сдадут. Неделю мы плутали, пока до Озяби добрались, там мальчонку местного подкараулили, спросили. Андрей его припугнул потом: я говорит, леший, расскажешь кому про меня – в лес унесу. Ох, он помчался от нас!
Она засмеялась снова, помолодев сразу лет на двадцать, а то и сорок, что-то удалое, лихое, разбойничье промелькнуло в её выцветших глазах, стало легче представить, какой она была раньше, тогда, с Осей.
– В деревню не вышли мы, побоялись, рядом в лесочке ночевали. Оттуда вроде как уже знали дорогу, а всё равно плутали ещё неделю с лишком, потому как без Ольги. Я вроде и выучила, как схрон этот найти, да перепутала маленько. За неделю эту у Лены обувка развалилась совсем, босиком шла, на сук напоролась, нога распухла. Лев её спас. Сначала на руках нёс, потом три недели выхаживал. Еда у нас кончилась, шатун за нами увязался, у нас и удрать-то сил не было, он прыгнул, шатун, прямо на Виталика, Виталик последний шёл. Насмерть задрал, зато мы спаслись. Пока он с Виталиком возился, успели уйти подальше, да рогатину мужики изготовили. Не понадобилось, пронесло.
Она помолчала, отхлебнула холодного чая и велела:
– Ты, когда судить будешь, судья праведный, про Лену-то с Виталиком не забудь. Тебе вот двадцать, а ему, Виталику, двадцать семь было. Двадцать семь лет человек на свете прожил, из них девять – в лагерях. Так-то. Вот теперь и суди.
Глава восьмая
Лагерь
1
В конце апреля Осю вместе с Наташей и Танькой Парфёновой отправили в Локчимлаг – начальник лагпункта то ли забыл про неё, то ли нашёл себе другого художника. На сей раз их везли в товарных вагонах без окон, до отказа забивая людьми трёхэтажные длинные нары. Дважды в день их пересчитывали, перегоняя из одного конца вагона в другой, раз в день приносили ведро рыбьей баланды.
Большую часть трёхдневного пути Ося просидела у неплотно прикрытой двери, подставляя лицо под струйку свежего холодного воздуха и жмурясь от дрожащего, скользящего, разбрызганного, словно на картинах пуантилистов, снежного сияния. Вдоль пути бесконечными рядами стояли ровные, словно остриженные, пирамидки елей, то далеко отступая, то приближаясь к дороге вплотную. Иногда тёмная еловая стена прерывалась, тоненькие берёзки стайками выбегали к полотну, беззащитно нагие и трогательные, иногда мелькала приземистая изба обходчика, а однажды из леса выскочил лось, завертелся на месте в ужасе от железного, грохочущего, странно пахнущего зверя и в один невероятный прыжок-разворот вновь скрылся за деревьями. Ося вдруг вспомнила Ярошенко [50], усмехнулась.
С детских лет она делила художников на фотографов и артистов, и вторые всегда были ей ближе. Но в нынешней жизни все прежние любимцы выглядели так, словно она смотрела на них в перевёрнутый бинокль, казались меньше, дальше, тусклее. Почему-то всё чаще вспоминались передвижники, и уже не казались такими пресно-назидательными. От такой перемены становилось ещё грустнее. Несвобода уже изменила её внешне, состарив лет на десять, а теперь принялась за самую её сущность. Она пыталась сопротивляться, рассказывала Наташе с Танькой о своих любимых художниках, выстроила себе воображаемый музей и каждый вечер гуляла в его залах, с бессильной грустью замечая, как ускользают, забываются оттенки и детали. Иногда она задумывалась, как выживает, как справляется Яник, но от мыслей этих становилось так тяжело, что она запретила себе об этом думать.
Вечером третьего дня они прибыли в Усть-Кулом. Небольшой по сравнению с Котласом лагерь был застроен бревенчатыми щелястыми бараками, вдоль барачных стен привычно тянулись нары, но не из досок, а из круглых тонких жердей. «На таких поспишь», – грустно сказала Наташа. Грязный склизкий пол тоже выстелили жердями, и ходить надо было осторожно, чтобы не зацепиться за торчащий сучок или отломавшийся кусок жерди.
Вновь прибывшим полагалось четыре недели тифозного карантина, и двадцать восемь дней они маялись в карантинном бараке на минимальном пайке. Ося много рисовала, котласский плакат словно сорвал замок, на который она закрыла себя после ареста Яника. Главные свои сокровища – тетрадку и три карандаша – она всегда носила за пазухой, боясь даже на минуту оставить в бараке. Как-то раз уголовница по кличке Бомба подкралась незаметно сзади, вырвала у Оси заветную тетрадку, долго её рассматривала, потом спросила:
– Меня можешь намалевать?
– Могу, – сказала Ося, не спуская глаз с тетрадки.
– Малюй, – приказала Бомба. – Нет, погоди, я причепурюсь пойду.
Вернулась она ярко накрашенная, в кружевной кофточке, неизвестно где добытой, села, чопорно сложив руки на коленях, приказала:
– Давай.
Вслед за Бомбой пошли другие урки, как они сами себя называли. Теперь у Оси не было недостатка ни в клиентах, ни, к её несказанному удивлению, в бумаге. Урки взяли её под своё покровительство, а вместе с ней и Таньку, и Наташу, хотя покровителями Бомба со товарищи были неважными – грубыми, истеричными, ревнивыми.
После карантина их распределили по бригадам и отправили очищать от сучьев и завалов прорубаемую через лес трассу.
Ося прислонялась к деревьям, гладила шершавую кору, разминала в пальцах иголки, вдыхала горьковатый смолистый запах хвои. Лес был старый, глухой, не привыкший к людям. Высокие сосны, похожие на гусаров в киверах, стояли неподвижно, величественно, но где-то невообразимо высоко верхушки их раскачивались даже от самого лёгкого ветерка, наполняя лес едва слышным гудением. И падали спиленные, срубленные сосны, как солдаты в бою, – не сгибая колен. Ягоды калины, раздавленные тяжёлыми стволами, алели, словно капли крови. Под корой срубленных деревьев отчаянно копошились муравьи, не понимали, что им делать теперь, куда бежать. Отрубленные сучья лежали горой, словно ампутированные руки, тянули к Осе свои прутья-пальцы. Непонятная, жестокая сила, поломавшая жизнь Янику, Осе, Наташе, Таньке, прошлась и по лесу, оставила чёрный шрам-трассу и продолжала калечить лес дальше.
– Глупости! – сказала Танька. – Лес жалеть. А избы из чего строить? Полы из чего настилать? Лес-то вырастет, ты лучше себя пожалей.
Ося себя жалеть не стала, но и спорить не стала.
Работа поначалу показалась им нетрудной – растаскивать в сторону от просеки мелкие брёвна и ветки, не оттащенные трактором. Но уже к вечеру первого дня чулки у всех изорвались в клочья, Танька умудрилась даже юбку порвать, а кожа на руках и ногах покрылась глубокими кровавыми царапинами.