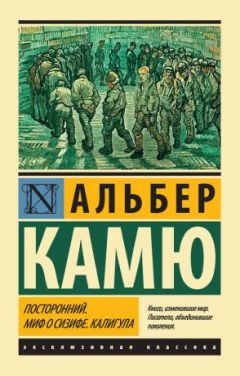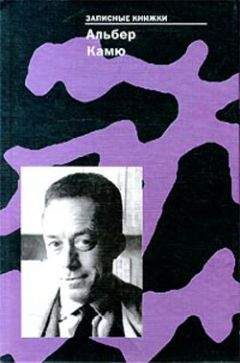Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Иди-ка, Катерина, Ивану рукав у полушубка зашей, он распорол вчера.
– Я сейчас сюда принесу, – быстро сказала Катька. – Здесь шить буду.
– Не сюда, а на месте зашей, – велела Катерина Ивановна, не глядя на неё.
– Ну бабушка, – взмолилась Катька, – ну я же тоже хочу…
Катерина Ивановна не ответила, только посмотрела пристально, Катька встала, топнула ногой и вышла из кухни.
– Как тебе житьё-бытьё наше? – спросила Катерина Ивановна, развернувшись ко мне.
– Интересно, – осторожно ответил я, она усмехнулась невесело и надолго замолчала, прикрыв веки. Решив, что она заснула, я собрался уходить, передвинулся к краю скамьи, но она вдруг сказала, не открывая глаз:
– Прочитала я письмо. Сколько, говоришь, ей осталось?
– Точно никто не знает. Может, неделя, а может, и год. Врачи говорят, вряд ли больше года.
– И как она? Боится?
– Смерти она не боится, – медленно сказал я. Начинался главный разговор, тот, ради которого я пришёл к ней, и я стиснул зубы, пытаясь унять внезапную дрожь. Катерина Ивановна не торопила. Она открыла глаза и теперь разглядывала меня откровенно, в упор.
– Она боится, что я не успею вернуться, и она никогда не узнает.
– Чего не узнает?
Я должен был бы сказать: «Простили вы её или нет», именно это и было целью моего путешествия – от Осиного имени попросить прощения. Но я не смог. Если чему-то я и научился от Оси, если что-то оставила она мне, то, конечно же, не Хайдеггера, и не Фрэнсиса Бэкона, и не маятник Максвелла, а понимание того, что истина, любая истина, кроме, может быть, десяти заповедей, настолько же очевидна кому-то одному, насколько неприемлема и отвратительна кому-то другому. Недобрая тяжёлая старуха, сидящая напротив, знала только свою правду, свою истину, и, прежде чем просить прощения, я должен был объяснить ей, что есть и другая.
– Чего не узнает? – повторила Катерина Ивановна.
– Не узнает, как вы тут живёте, – неуклюже вывернулся я.
– Да ей-то что? – удивилась старуха. – Как умеем, так и живём. Где она и где мы.
– Она всё время о вас думает. Никогда не переставала. Ваш портрет, что я привёз, все эти годы у неё в спальне висел.
– Совесть заела, – сказала Катерина Ивановна самодовольным тоном человека, получившего ещё одно подтверждение давно известной ему истины. – А перед концом, знамо дело, совесть-то облегчить хочется.
– А может быть, не совесть, а тоска? По подруге, когда-то самой близкой.
– Совесть, – убеждённо повторила Катерина Ивановна и резко провела перед собой ладонью, словно разрезая пространство, отсекая меня и Осю от себя и от своих.
Я не ответил, мне сделалось так грустно, как не было даже тогда, когда мы расставались с Ирмой. Как объяснить человеку, не желающему слушать объяснений? Как убедить сидящего в собственной правде, словно муха в янтаре, что возможна и другая правда? Письмо не помогло, портрет не помог, всё, что оставалось у Оси, – это я, и я не мог, не имел права вернуться к ней без ответа. Соврать ей я не смогу, она всегда читала меня как книгу, и есть только одна правда, которую я смогу ей сказать. Я засунул руки в карманы, сжал их в кулаки, вздохнул и заговорил, сначала медленно, потом всё быстрее и громче, забывая про осторожность, про вежливость, про всё на свете, кроме Оси, ждавшей меня на больничной койке за тысячи километров отсюда.
– Я не знаю толком, что произошло между вами, Ольга Станиславовна рассказала мне очень коротко. Но я уверен, что она самый порядочный, самый добрый, самый цельный, самый верный человек, которого я встречал в жизни. Мне всего двадцать лет, и мне трудно спорить с вами о том, чего я не знаю, но вы ошибаетесь. В чём бы вы ни обвиняли её, вы ошибаетесь. Она не способна ни на подлость, ни на предательство. Нелепая случайность, непонимание, ошибка, но не предательство.
– Ишь ты, защитник какой, – усмехнулась старуха. – И говорит-то как гладко, ровно по маслу катит. Кабы всё было по-твоему, она б тебе сама рассказала, как разошлись наши стёжки-дорожки. А вот не рассказала же. Стыдится, выходит.
– Нет! – крикнул я. – Она нарочно не рассказала. Чтобы у меня не было предвзятого мнения. Чтобы вы рассказали мне с чистого листа. Чтобы я судил беспристрастно.
– Судил беспристрастно, – медленно повторила Катерина Ивановна. – Да кто ж тебе право такое дал, нас судить?
Я попытался возразить, она остановила меня властным жестом.
– Судить нас собрался, значит. Ну что ж, расскажу, суди. Беспристрастно-то у тебя вряд ли выйдет, а всё ж расскажу. Разговор длинный будет, давай-ка ко мне переберёмся.
Она грузно встала со стула, подхватила со стола свою чашку, прошла коротким, незнакомым мне коридором, открыла дверь, пропуская меня в небольшую комнату без окон, зажгла керосиновую лампу. Деревянный топчан у стены был аккуратно застелен рыжим меховым покрывалом, рядом на отполированном чурбаке стояла в деревянной резной рамке выцветшая до белизны фотография, лежал конверт с Осиным письмом. Над топчаном висел самодельный коврик, на торчащих из стены деревянных клиньях висела одежда. Возле чурбака стояли две низенькие табуретки.
– Небогато живём. У вас-то небось жизнь побогаче будет, – заметила Катерина Ивановна, когда мы сели. – Да ладно, не вскидывайся. Слушай лучше, пока не передумала я, да не перебивай, не люблю, когда мешают.
Она помолчала, достала из конверта Осину фотографию, повертела в руках, сказала:
– Вольнонаёмный один у нас был, с фотоаппаратом, раз упросили мы его, поснимал нас. Аккурат в это время мы познакомились, в сороковом году. Её из слабкоманды [47] в лагерь вернули, а меня из Карлага перевели. В первый же день я её заприметила. Нас в лагерь в обед пригнали, все на работе, барак пустой. Урки дневальную под нары загнали, всё вверх дном перевернули, всё, на что глаз ихний лёг, себе позабирали. Нарядились, водки раздобыли, жрут, песни орут, дым столбом. Вечером смена вернулась, кто плачет, кто ругается, а толку что? Собрали вещи свои, что смогли собрать, и от урок подальше.
Тут вижу, Ольга идёт. Худющая, ровно скелет, пальцем перешибить можно, лицо всё в болячках, идёт медленно так, видно, что сил в ней совсем уж нет. Но идёт. Подошла к марухам и говорит: «У меня в мешке три карандаша было. Вам ни к чему, а мне нужно, я художник. Верните, пожалуйста». Они её послали, конечно, а она не уходит. Толкнули её, упала, встала и опять за своё. С марухами закон простой: если ты с ними связался, надо до конца идти, ежели дрогнешь, они сразу учуют, и всё, пропал человек. А ежели до конца пойдёшь, может, и повезёт тебе, они рисковых любят. И вот видно всем, что доходяга эта до конца пойдёт, помрёт за свои карандаши. Мамка ихняя, видно, скучно ей было, потешиться захотелось, говорит, мол, коли ты художник, так намалюй чего. И Ольга ей так спокойно отвечает, мол, давай карандаш и бумагу. Мамка, значит, цыкнула там, принесли тетрадь, карандаш, Ольге дали, она на нарах аккурат подо мной пристроилась и мамку эту нарисовала, да с вывертом этак, и похоже вроде, и смешно. Рисует она, а я сверху смотрю и думаю, совсем с ума девка спятила, её сейчас за такое опустят ниже некуда. Ан нет, мамка посмотрела, да как загогочет. Понравилось ей, понимаешь, с юмором оказалась. Вернули Ольге карандаши, она их забрала, сказала спасибо и ушла. Даже не оглянулась, а марухи, они ведь дурные, мало что им в башку-то стрельнёт, могли передумать, могли ножик в спину метнуть. Ей бы сразу за нары, в уголок, а она по всему проходу медленно так идёт, ничего не боится. Словом, глянулась она мне.
На следующее утро подошла к ней, разговорились. Ну и сошлись, в паре начали работать. Я здоровая была, сильная, со мной даже марухи не связывались. Я на лесоповале полторы нормы сделаю, а она – половину. И всё извинялась, всё говорила: «Вот сил наберусь». А откуда силы-то? Тут Локчимлаг закрыли, нас в Ухтижемлаг перевели, опять на лесоповал. Зимой её бревном придавило. Да это она рассказывала поди.