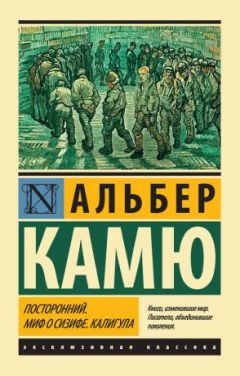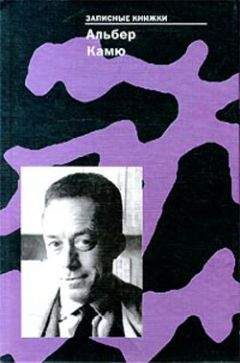Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Женщины проходили мимо, Ося провожала их невидящими глазами, пока не зацепилась взглядом за знакомое лицо. Высокая, измождённая, но всё ещё очень красивая женщина в грязной и рваной меховой шубке тоже смотрела на Осю, сдвинув брови, словно что-то припоминая. Память на лица у Оси была профессиональная, и женщину она узнала сразу, несмотря на короткую стрижку и худобу.
– Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна, – сказала она, спрыгнув с нар и подойдя поближе. – Я – Петина няня, Ольга Станиславовна, помните?
Женщина охнула, губы у неё задрожали, она попыталась выговорить что-то, но так и не смогла, только заплакала тихо, привычно, почти равнодушно. Ося взяла её за руку, отвела на Танькины пустые нары, усадила, достала из своего НЗ сухарик, протянула ей. Татьяна Дмитриевна замахала руками, зашептала лихорадочно:
– Не надо, не давайте мне ничего, не тратьте на меня сил. Вы не знаете, с кем вы имеете дело. Мне не нужно жить, ни к чему.
– А Петя?
– И Пете будет лучше без меня. Я… У меня… Вы не знаете, что я сделала.
– Подписали протокол? – предположила Ося. – Так его все почти подписывают.
– Нет, хуже, гораздо хуже. Вы, вы особенно, вам не надо со мной.
Она встала, попыталась уйти, Ося удержала её, снова усадила на нары, попросила:
– Расскажите. Вам легче станет. А осуждать здесь некому, все в одной лодке.
– Легче мне и на том свете не станет, – оборвала Татьяна Дмитриевна. – Впрочем, всё равно. Я скажу вам, скажу, чтобы вы знали, чтобы не думали. Я – сексот [54], понимаете? Я доносчик, стукач. Людей сажали по моим доносам, понимаете? Я на Марго доносила, на вас доносила. Что вы так смотрите? Не смейте жалеть меня, меня не за что жалеть.
– Вас били?
– Не били. Меня не били. Меня даже не били, понимаете? Я просто… Они обещали отпустить брата. Он умирал, ему в тюрьме отбили почки, я должна была спасти его любой ценой. Он гений, он учёный, он с Бором переписывался. Муж сказал, что сделать ничего нельзя, но я не могла это принять, не могла.
– Спасли?
Татьяна Дмитриевна не ответила, отвернулась.
– Зачем же они вас арестовали?
– Мужа тоже арестовали, – не поворачиваясь, сказала Татьяна Дмитриевна. – Я поняла, что всё равно, что лучше в петлю, но я струсила, я не смогла в петлю, я оставила Петю с мамой, пошла к прокурору и сказала: «Арестуйте и меня, я не могу больше молчать, я выйду на площадь и буду кричать, что же происходит с нами». Сначала меня в психушку отправили на экспертизу, но там сказали, что я нормальная, что я – враг народа, который под влиянием нервного срыва, вызванного арестом мужа, показал своё истинное нутро.
Ося взяла её за руку, она отдёрнула руку, прижалась лбом к деревянному столбу, на котором держались нары, спина её и длинная красивая шея затряслись. Ося принесла ей воды, она оттолкнула кружку, упала лицом вниз на грязный соломенный матрац и затихла. Ося вскарабкалась на свои нары, не зная, что ещё сделать и можно ли ещё что-то сделать. Утром Татьяна Дмитриевна ушла, не попрощавшись, и Оси с тех пор всячески избегала. Нары заняла тихая, отрешённая женщина непонятного возраста по фамилии Немировская, казавшаяся Осе смутно знакомой. Ося несколько раз пыталась с ней заговорить, женщина отвечала вежливо, односложно, глядя в сторону. Ося оставила её в покое.
С приходом новеньких урки оказались в абсолютном меньшинстве, и жить в бараке стало легче. Прекратились драки с поножовщиной и пьяные оргии, сошли на нет бесцеремонные блатные шмоны, вокруг зазвучала почти правильная, почти человеческая речь. Новенькие, ещё не доведённые голодом до унизительного физического и нравственного бессилия, пытались наладить подобие нормальной жизни, читали лекции, пели хором по вечерам, делали друг другу причёски, даже уговорили начлага в обмен на ударную работу разрешить танцы. По воскресеньям из соседней мужской зоны приходили мужики с гармошкой, играли, и молодые женщины танцевали. Ося оставалась в бараке: от вида одетых в рваньё, неухоженных, измождённых женщин, топчущихся в обнимку на пятачке между БУРом и наблюдательной вышкой, уровень её ненависти зашкаливал за пределы выносимого. Только через месяц она заметила, что Немировская тоже остаётся в бараке.
– Я не люблю танцевать, – как-то сказала она, перехватив Осин любопытный взгляд. – Я, видите ли, балерина, бывшая прима-балерина Мариинского театра. Для меня танец – это работа.
– Вот! – воскликнула Ося – Вот где я вас видела.
Женщина улыбнулась, сказала:
– Возможно. А вы почему не танцуете?
– Потому что это унизительно. Эти попытки изобразить нормальную жизнь, как будто ничего особенного не происходит, как будто можно жить и так.
– Так ведь ничего особенного и не происходит, – улыбнулась Немировская. – Люди на воле так же ходят на работу, и так же обязаны выполнять норму, и так же не могут говорить то, что думают, и иметь, что хотят. Разница только в том, что они немного лучше одеты и немного больше едят. Так почему же там танцевать можно, а здесь – нельзя?
– Там живут свободные люди, а здесь рабы. Нет ничего отвратительней рабов, изображающих свободных людей.
– То есть рабам веселиться не положено?
– Рабы должны воевать за свою свободу, а не изображать её.
– У меня был поклонник, профессор-орнитолог, – сказала Немировская, улыбаясь своей странной, мерцающей, как у чеширского кота, улыбкой. – Он как-то объяснил мне, почему большие птичьи стаи всегда летают клином. Самые сильные птицы всегда летят впереди. Летящие за ними используют завихрения воздуха от их крыльев и так экономят силы. Но сильных всегда мало, и поэтому – клин. Если бы они летели в ряд, многие просто не долетели бы. А вы хотите, чтобы все вели себя как вожаки.
– Я хочу, чтобы люди вели себя как люди, – вспыхнула Ося. – Обычные люди, с минимальным чувством собственного достоинства.
– Люди с чувством собственного достоинства, как правило, плохо ходят строем, поэтому их осталось мало.
Ося глянула внимательно, такие речи ей ещё не доводилось слышать в лагере.
– Не бойтесь, – сказала Немировская. – Я не сумасшедшая и не стукач. Я наблюдала за вами целый месяц и знаю, что с вами можно быть откровенной. Я привыкла молчать, люди обычно не разделяют моих взглядов, но иногда так хочется перемолвиться хоть парой слов.
– А какие у вас взгляды? – радуясь редкой возможности говорить открыто, спросила Ося.
– Очень простые. Я не верю, что тот, кто был ничем, может стать всем просто так, потому что какие-то теоретики решили, что так правильно, или потому, что ему обидно, что он никто. Но я верю, что каждый может стать кем угодно, если у него есть хорошие руки или голова, а лучше – и то, и другое.
– А если у него нет?
– Если он не умеет работать ни руками, ни головой, а только языком, да и то с грехом пополам, почему же он должен стать всем? И когда такие люди становятся всем, я не признаю их права над собой. Но я не требую того же от других, и в этом между нами разница. Вы пытаетесь мерить всех одной меркой, хорошей, правильной, идеальной даже меркой, но одной для всех. Вы не ханжа, вы и себя мерите этой же меркой, но ведь это их метод, этих строителей нового мира, – всех подгонять под одну мерку, у них только мерка другая.
– А вы? Как вы мерите?
– Никак. Люди разные, и силы у них разные, и умения разные, и правды разные. Не измеришь.
– Значит, абсолютных истин для вас нет?
– Есть. Но очень немного. Десять заповедей – вот и вся моя абсолютная истина. Наша нынешняя власть нарушила их все, потому и потеряла моральное право управлять мной.
– Тем не менее она это делает, – заметила Ося. – Она выхватила вас из театра и забросила сюда.
– Она думает, что она это делает. Внутренней свободы, свободы думать что хочу, не боясь того, до чего додумаюсь, у меня отнять невозможно.
– Очень даже возможно. Пеллагра очень быстро лишает способности думать, – возразила Ося.