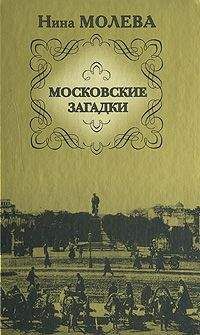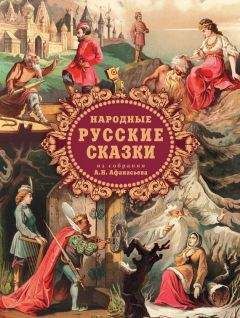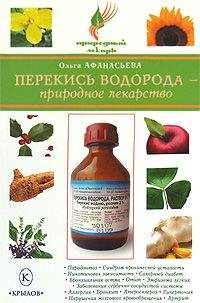Театр тающих теней. Конец эпохи - Афанасьева Елена
– Что мог он сделать?! Санитарный врач на оцепленной чекистами даче. – Косарев еще в сознании, но говорит о себе теперь в третьем лице? – В чувство его комиссары привели. Только и мог, что сказать привезти двенадцать подвод негашеной извести и засыпать в бассейн.
Негашеная известь. Двенадцать подвод. Вот о чем в ските бормотал доктор Косарев.
– Домой его, по счастию, в тот день вернули, но…
Тогда Василий Иванович и повредился рассудком, понимает Анна. Родные испугались, что чекисты не оставят в живых свидетеля, и в монастырь его отвезли. После от облавы доктору пришлось оставить скит и в пещерный город самому уходить.
– А крестики и медальоны? – осторожно спрашивает Анна.
Доктор Косарев подозрительно на нее косится – откуда она знает?
– В соседнем с нашим ските вы всё время бормотали, и теперь по ночам про медальоны и крестики бормочете.
– Дорога с главной дороги к даче Багреева крестами усеяна.
Анна хочет спросить почему, но от страшной догадки замолкает. Ведо́мые на смерть срывали и бросали на землю свои кресты и медальоны в надежде, что по ним близкие об их страшной участи узнают.
– Но кашель ваш мне определенно не нравится. И не нравятся белки ваших глаз! Анализы крови сдать вам нужно срочно! И не тяните, голубушка! Немедленно в лабораторию! – бормочет санитарный доктор, и Анна понимает, что его сознание снова перешло невидимый порог.
Через три дня приходит сходивший к брату на станцию в Симферополь Серафим.
– Брат завтра направляется составом в Ростов. Вывезет вас в кочегарке. В Ростове в Соборном переулке у отца-настоятеля бывший послушник живет, поможет, чем сможет, на поезд до Петрограда посадит. Отец-настоятель письмо к нему написал. Но подводы нет, и лошади нет. До станции вам самим идти придется.
Уходят, едва собравшись. Им и собирать нечего. За доктором Косаревым Серафим обещает присмотреть, пока обратно в скит его забрать будет можно.
Много часов под мелким дождем идут в Симферополь, на станцию. Просто идут. Других мыслей уже нет. Идут.
Иной раз между селами кто из крестьян подвезет по пути на подводе, а кто и мимо хрупкой женщины с двумя девочками проедет.
Идут.
И Анна уже не помнит…
…как мокрые до нитки к вечеру доходят до станции…
…как в прокопченном паровозе на дальнем пути находят брата монаха Серафима…
…как тайком едут в его кочегарке, где не только согреться и высохнуть, но и сгореть заживо от адова пекла можно…
…как, доехав до Ростова, по адресу на письме настоятеля ищут его послушника…
…как находят дом, но послушника не находят – в доме в переулке Соборном живут другие люди и, где он сам, не знают…
…как под пронизывающим ветром с Дона возвращаются на вокзал…
Одни. Без билетов. Без денег. Без еды…
…как пытаются сесть на поезд до Петрограда…
Всё это Анна едва помнит.
Всё в каком-то полубреду…
Жар кочегарки. Жар тела. Резь в животе – водка столько дней назад пищевод обожгла, а резь и боли только сильнее.
И ветер. Острый, колючий, продувающий насквозь мокрый ветер с Дона. Последнее, что Анна помнит, как оседает на грязный перрон на ростовском вокзале и через нее переступают люди с тюками и баулами, спешащие на петроградский состав.
Ирочка плачет, тянет за руку.
– Мамочка, вставай! Вставай, мамочка!
Перепуганные глаза Олюшки… Переступающие через нее мужики и бабы с котомками… Лицо наклоняющегося над ней бритоголового комиссара… Глаза Антипа, вцепившегося в горло пытавшемуся изнасиловать ее пьяному матросу… Глаза разрубленной, но еще не умершей Лушки… Ветер… ветер… ветер… – всё закручивается в воронку нарастающего бреда.
Что нянька Никитична бритоголовому комиссару, который приходил искать Анну, сказала? Что у нее тиф. Если у няньки и вправду был не просто жар, а тиф? Сколько времени с тех пор прошло? Десять дней? Две недели? Больше? Какой у тифа инкубационный период? Нет больше рядом умного Саввы, который дал бы ответ на все вопросы… Что, если Анна, переодевая няньку Никитичну и вытирая ей пот, заразилась от нее тифом? И теперь не может встать.
Не может встать в чужом городе, на чужом вокзале. Две маленькие девочки без еды и без денег совсем одни рядом с матерью, а та в бреду. И никому нет до них дела. Никому в мире, пережившем столько бед, войн, революций, крушений прежней жизни, никому нет дела до маленьких напуганных девочек и осевшей на землю женщины. Она здесь, на ростовском вокзале, умрет, а что будет с девочками? Сдадут в приют? Станут беспризорницами?
Ее толкают пассажиры с тюками, штурмующие поезд на Петроград. На нее странно смотрят матросы – от моря уже далеко, почему здесь матросы? Они не должны знать, что она революционного матроса застрелила. Это знает один человек. Но он остался там, в Крыму, от него они убежали!
Помоги подняться, Господи! Девочки не выживут одни! Отче наш! Иже еси на небесех… Господи Всемогущий, дай сил подняться. Не слышишь ты меня, Господи! Сил нет, с каждой секундой их все меньше. Не остается даже на то, чтобы глаза открыть. Господи! Спаси! Если уже не меня, то моих девочек! Яви доброту свою! Пошли ангела небесного на помощь мне и моим дочкам, Господи…
Всё, что Анна может, это зажать в пылающей руке ручонки дочек и не отпускать их, чтобы не потерять. На большее нет сил.
– Вот вы где!
Странно-знакомый голос? В яви или в бреду? Помоги, Господи! Господи! Помоги!
Мешая бред с молитвой, собрать все силы, приоткрыть глаза…
…И увидеть склонившегося над ней бритоголового комиссара Елизарова в куртке бычьей кожи.
И последнее, что она успевает подумать прежде, чем впасть в полное забытье, – неужели в этой новой жизни вместо Бога тебя слышит Дьявол?
В бреду яви
Боль.
Она прорывает тщательно выстроенные на ее пути заслоны и стремительно заполняет всё твое существо. Каждую частичку, каждую молекулу, каждую клеточку. Как бинт пропитывается кровью из раны, так и всё внутри стремительно пропитывается этой болью. Такой запредельной, что нет сил даже кричать.
Боль.
Боль.
Больно…
И ничего в сознании нет – только это всепоглощающее ощущение боли.
И ни слова на губах. Только это ледяное сочетание – ль… оль… боль… ль…
И ощущение ногтей, до крови впившихся в собственные ладони.
И ощущение закушенных губ.
И сердце. Сердце, которое всё последнее время пугало то изнуренно отчаянно быстрым бегом, то сменявшими его резкими остановками на бегу.
Сердце, которое вырывалось и замирало, теперь словно попало в руки неземного великана, который выжимает твое сердце, как апельсины для утреннего сока в той, старой жизни.
Сейчас эти руки выжмут твое сердце и выбросят.
И тебе уже не надо будет мучиться пытающей мыслью о несоответствии собственного тела и сути. Отчаянного не узнавания – словно суть, на секунду выйдя из тела, не узнает свое пристанище и не может в него вернуться.
Но и не вернуться не может.
У этого тела, у этой земной оболочки, у всего, что в тебе творится, есть свои долги на этой земле.
Есть дети.
И как бы ты ни сходила с ума, как бы ни погибала от шока той боли, которую и терпеть уже нет никаких сил, все пределы терпения давно пройдены, но ты вынужденно живешь дальше. И испытываешь, что же там, за теми пределами, после которых, кажется, и жить уже невозможно.
И дышать невозможно.
И думать, и чувствовать, и любить невозможно.
Невозможно ничего.
Но надо жить. Через ту боль, с которой и выжить нельзя. Дети не виноваты, что так больно.
На минуту в бреду или во сне взмыть, взлететь, воспарить, посмотреть на всё со стороны. Взмыть. И не возвращаться долго. Пока не найдешь другое пристанище для своей измученной души. Быть может, другая жизнь в другом теле окажется легче и лучше…
Взмыть. Воспарить. Вознестись, почувствовав невероятное, невиданное всевозвышающее и всепрощающее облегчение. Легкость почувствовать. Крылья за спиной. И ветер, ветер. Ветер – не этот колючий, пронизывающий, закрывающий твои глаза ветер, дующий сейчас с Дона. Другой. Ветер в крылья. Возносящий на иные потоки. И ласкающий. И обнимающий.