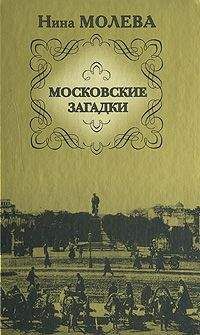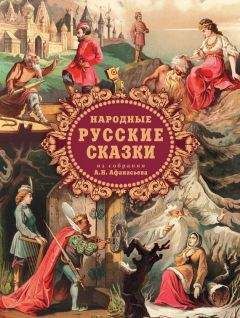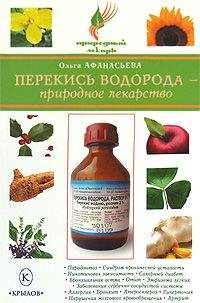Театр тающих теней. Конец эпохи - Афанасьева Елена
Продрогнув за ночь до онемения рук и ног – всем, что дали теплого монахи, она укутала девочек, – и подоткнув под спящих дочек солому, Анна выбирается из своего скита. На негнущихся ногах спускается из своей пещеры, через ущелье идет вверх к храму.
В пещерном храме так же холодно. И почти темно, горят лишь несколько тусклых свечей.
Спрашивает у нянькиного «знакомца» старца Егория совета.
– Сил больше нет. Что делать, не знаю. Как дочек спасти? Куда бежать…
– Что сердце тебе говорит? Сердце куда зовет?
– Домой.
– А дом твой где?
– В Петербурге мой дом… На Большой Морской…
Нет больше такого города Петербурга. Давно он Петроград. Дочка ее Ирочка такого города никогда не видела, Олюшка почти и не помнит – уезжали, когда ей всего восемь. И все это было в другой жизни. Но дом ее там. В городе, где пахнет Невой и другим морем. Только выбраться в тот город как? Запрет на передвижение введен почти сразу после прихода красных.
Договаривается с настоятелем, что она с дочками пересидит в монастыре несколько дней.
– Братья придут, помогут очаг развести. В пещерных скитах есть место для очага, нужно только правильно огонь развести, теплее станет. У одного из монахов брат работает на железной дороге. Монах Серафим дойдет до станции в Симферополе, найдет брата, расспросит, как женщину с двумя девочками в Петроград отправить.
– Как дойдет? Пешком?! – ужасается Анна.
– Часа три-четыре дороги до Симферополя будет, смотря как идти. И не такое хаживали, – говорит старец. И добавляет: – Только сидеть вам нужно, не высовываясь. Новые власти монастыри раз за разом обыскивают, белогвардейцев и уклоненцев ищут.
– И от вас забирали?
Ни да, ни нет старец не отвечает. По голове Анну гладит.
– Пока Бог миловал, прячем. Рядом с вами в соседнем ските доктор Косарев. Василий Иванович. Главный санитарный врач Ялты. После… В начале марта повредился рассудком. То разумен, то бред несет, и провалы в памяти. Вторую неделю прячем.
– Санитарного-то врача от кого прятать?
Молчит. Это правильно. Старец монастыря, приютившего беглецов, и должен молчать.
Человек привыкает ко всему. И к холоду в скиту, и к кашлю от простуды, и к рези в животе от постоянного голода – кажется, выпитая у Федота водка из нее так и не выходит, который день перекатывается по пустому желудку, выжигая всё внутри. Ко всему привыкает. Но не к злой закономерности – чуть жизнь образуется, снова нужно куда-то бежать.
Старец приходит в их скит следующей ночью.
– Уходить нужно! Чекисты приехали. Белогвардейцев засевших ищут. И доктора. Его мы уже в другое место прятаться отправили. Но, не ровен час, и вас под одну гребенку заметут. – Настоятель оставляет две свечи, полбуханки хлеба и спички. – По склону вверх, пройдете лесом. Напрямую по дороге не ходите – могут послать погоню. Берите правее, и дальней тропой через караимское кладбище выйдете к Чуфут-Кале. Там в одной из кенасс – давно пустующих караимских молитвенных домов – укроетесь. Если доктор туда всё же дойдет, не заблудится, приглядите за ним. Брат Серафим как со станции вернется, за вами придет.
Ночь. Слышен грохот моторов авто, на которых приехали чекисты, лай собак – с собаками доктора искать будут.
И ее искать будут. Собаки могут взять след, если бритоголовый из имения что-то из ее или детских вещей захватил. Спустят собак с поводка, те ее догонят, и что тогда? Нет больше Антипа Второго. Некому за нее глотки грызть.
Снова приходится будить девочек. Снова объяснять Ирочке, что нужно молчать. Что игра такая. Кто дольше промолчит, тот получит… Что же может получить тот, кто дольше всех промолчит, если у нее ничего нет? Ирочка, по счастью, сонная. Продолжает спать у нее на плече. А им с Олей нужно идти вверх. И на себе нести – ей Иришку, Оле мешок со свечками, хлебом и последним их добром. Идти по воде – если ищут ее, если есть у комиссаров их вещи из имения, так в воде собаки не возьмут след.
Талые воды стекают с горных изломов в ущелье. В любой другой раз, как могла, обходила бы ледяные потоки стороной. Теперь давно прохудившимися ботинками наступает прямо в воду. Ноги мокрые. Чулки мокрые. Сама вся взмокшая – тяжело карабкаться в гору с Иринкой на руках. Куда идут – не видно. Сначала в полной темноте, чтобы приехавшие чекисты движущийся огонек не заметили. Потом со свечкой, которую то и дело задувает ветер, и спичек становится всё меньше и меньше, беречь спички надо.
Спасает едва забрезживший поздний рассвет. Первые отблески света от невзошедшего еще холодного апрельского солнца пробиваются сквозь голые ветви деревьев и отражаются от отшлифованных столетиями каменных плит под ногами. Какие ноги только не ходили по этой дороге. От каких только захватчиков здесь не укрывались. С древних веков, когда в этих местах появились первые города, до прошлого века, когда здесь жили караимы, через старое кладбище которых они теперь пробираются в город.
Муж часто про Чуфут-Кале рассказывал. Про осадный средневековый колодец у самых стен города, который в древних источниках описан, но до сих пор не найден – во время осад спасал город, питал водой. Про глубокие многодюймовые колеи, за тысячелетия продавленные в этих каменных дорогах повозками. Про перстень Пушкина: «Храни меня, мой талисман!», подаренный поэту Екатериной Воронцовой, который оказался не таинственным талисманом, а караимским погребальным кольцом отсюда, из Чуфут-Кале.
Почему муж столько про Чуфут-Кале знал, так настойчиво все источники изучал, она не спрашивала и особо в его рассказы не вслушивалась. Напрасно. Теперь бы это очень помогло. Муж говорил и об идеальных пещерах для укрытия, в которых в семнадцатом веке боярина Шереметева двадцать один год в плену держали, и о мавзолее Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, и о двух кенассах – большой и малой. Вспомнить бы теперь, что он именно рассказывал. Обязательно нужно вспомнить. Чтобы стать невидимыми для красных комиссаров, как были невидимыми караимы для врага. Чтобы согреть девочек. И выжить. И дожить… До чего? До чего она хочет дожить теперь, когда загнана туда, откуда и выхода нет?
До чего она надеется дожить?!
– Устала, не могу.
Ирочку Анна несет на руках, а Оля идет рядом и тащит мешок.
– Устала. Страшно. Не могу больше.
Олюшке только двенадцать лет.
Три последних года ее жизни они всё время куда-то бегут, от кого-то прячутся, чего-то боятся. Три из двенадцати.
Ирочка другой жизни не помнит и жаловаться еще не умеет. А Оле, ее маленькой храброй Олюшке, страшно. И что она, Анна, может поделать? Она садится на большой камень рядом с Олей. Спящую Иришку кладет на колени, одной рукой прижав головку к груди, другой притягивая к себе Олюшку.
– И мне страшно.
Не заметные в непробитой еще рассветными лучами темноте караимского кладбища слезы текут по дочкиным щекам. Анна не видит их. Чувствует. Вытирает почти онемевшими пальцами.
– Ужас, как страшно. Это Ирочке я говорю, что мы волшебники и у нас всё получится. А самой страшно.
Олюшка плачет всё сильнее.
– Но со мной моя храбрая, моя настоящая девочка – ты! – Анна смотрит на дочку, хотя что там можно разглядеть, скорее, почувствовать. – Без тебя я не справлюсь!
Она не знала раньше свою старшую дочку. Грудью кормила кормилица, выхаживали няньки, учили гувернантки. Поцелуй перед сном, снисходительная улыбка за детским завтраком, выслушать, как Оля выучила урок по музыке или по английскому, и снова к своим мыслям, своим стихам, своим желаниям. Теперь ни стихов, ни мыслей. Только одно желание – выжить. И девочек спасти. Стихов нет, но есть Олюшка.
– Это я во всем виновата. Во всем виновата я!
После тихих беззвучных слез и содроганий девочка разражается громкими рыданиями.
– …Что мы не уплыли вместе с бабушкой, папой и Машей. Что погибли Савва и Антип Второй. И Лушка. И Маркиза. И что нянька болеет. И что дальше всё страшнее и страшнее… Я виновата…