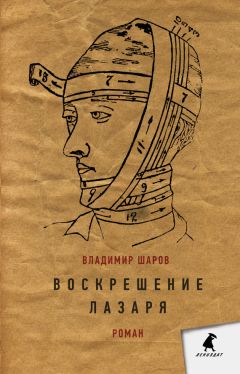Владимир Шаров - Репетиции
Постановка, которую репетировал Сертан, была завершена во Мшанниках по своим внутренним законам, в этом смысле мы можем утверждать, что искажено ничего не было. Работа эта шла вне влияния внешнего мира, если не считать таким изоляцию и болота, окружавшие деревню со всех сторон: возможно, они и поощрили ссыльных в их сосредоточенности на себе. Но деревня сама хотела этой изоляции, ради нее все они и ушли из Березняков и никогда, насколько я знаю, не раскаивались, что ушли. Сделанное Сертаном поначалу явно росло без всяких помех — влияло на постановку только время, тоже понимаемое нами не широко, а просто как длительность. Мои слова, что Мшанники стали их родиной, подкрепляет разное: большинство ссыльных, если принять во внимание и их потомков, а потомки ссыльных, не вернувшиеся назад, — те же ссыльные, здесь родились, прожили жизнь и умерли, еще важнее, что во Мшанниках эта жизнь сформировалась и устоялась, тут были выработаны ее рамки и правила, ее ход и порядок, все это выросло очень твердым и просуществовало, не поддаваясь, немало лет, даже тогда, когда деревня уже была связана с окружающим ее миром, сделалась его частью. В этом внешнем мире все радикально менялось, он оказался ломким и непрочным, но идущий извне хаос так же не затрагивал ссыльных, как и раньше — порядок. По собственным законам они и жили, и умирали. Устройство их мира, созданное ради одной единственной цели, оказалось куда лучше приспособлено для жизни, чем то, какое было за его пределами.
Однако сами ссыльные Мшанники своей родиной не считали. В родине вмещается очень много продолжения жизни, смерть в ней менее окончательна, чем где бы то ни было, в ней подчеркнуто, что твои дети продолжают тебя, в ней много ностальгии, много возвращения назад, много понимания ценности и жизни вообще, и того, что прожито, — ссыльные же жили ради иного. Они ждали конца, торопили его, как могли, он был для них единственной реальностью, и было бы странно думать, что при этом жизнь являлась для них Даром и Благодатью, скорее, для ссыльных она была грехом, злом, синонимом собственных мучений и мучений других людей. И еще: место рождения для них ничего не значило, Мшанники они, как раньше Березняки, считали и называли между собой Иерусалимом; по их понятиям, выбранные Сертаном, они больше никуда и никогда не переселялись, как жили, так и живут в Иерусалиме, потому что Иерусалим — там, в том месте, где есть они и куда к ним придет Иисус Христос.
Во Мшанниках, прежде чем власти узнали про них, ссыльные, никем не тревожимые, прожили больше сорока лет, к тому времени минуло несколько царствований — и самого Алексея Михайловича, и Федора, и Софьи, и Ивана, близилось к концу правление Петра Великого — и, конечно, все давно было забыто: и история их ссылки, и сожжение Березняков. На их старом пепелище теперь было большое богатое село с тем же названием, да и никому не могло прийти в голову, что между Березняками и Мшанниками есть хоть какая-то связь. Про себя они говорили, что пришли из России уже при Петре, то есть всего лет двадцать назад, но и эта хитрость была излишней, потому что никто ни о чем особенно не допытывался. В Сибирь тогда бежало множество народу, особенно старообрядцев, и таких деревень, как Мшанники, было немало. После того как они стали известны, никакого надзора за ними установлено не было, на них лишь положили те же подати и повинности, что несли другие, самая тяжелая была рекрутская, но в солдаты они сдавали захребетников, и постановке никакого урона не было. Если повинности исполнялись без недоимок и в срок, никто от них больше ничего и не ждал.
Выход из подполья, как они сначала ни были испуганы, что снова оказались открыты и на свету — первое время они даже думали повторить то, что сделали в Березняках — сжечь Мшанники и уйти дальше на север, — оказался для них во многом полезным. Окружающий мир не отличал их от себя и, значит, не мешал им устраиваться, как они хотят, кроме того, у него были сотни хороших вещей, без которых вести хозяйство деревне с каждым годом становилось труднее. Они торговали с ним и раньше, все эти сорок лет, но только при крайней необходимости и через якутов, поэтому нужное ссыльным шло до Мшанников редко меньше года, а то и два. Теперь же купцы и коробейники регулярно наезжали в село, и на меха у них можно было выменять что угодно: и хорошую упряжь, и железо, и ткани, и соль.
В начале XVIII века Мшанники были уже очень многолюдны, по петровской переписи семнадцатого года — двести тридцать шесть душ мужского пола, то есть к этому времени не просто были заполнены все вакансии второстепенных исполнителей, но, как я уже говорил, немало было таких, кто ни ролей, ни надежды получить их вообще не имел. Не имел, во всяком случае, до тех пор, пока село процветало и благоденствовало и на каждую освободившуюся роль было по два и больше кандидата. В связи с этим меня не раз посещала мысль, что напиши захребетники властям донос какого угодно содержания: сожжение Березняков, ересь, оскорбление царского имени, вмешай их в происходившее в селе — репрессии были бы неминуемы, и, конечно, они бы многим расчистили путь. Думаю, она приходила в голову и самим захребетникам: доносы были, и некоторые гонения, пережитые Мшанниками, объясняются именно ими. Несправедливость судьбы тех, кто был допущен к таинству столь близко, но навсегда обречен пропускать вперед других, чье преимущество было не в вере, праведности и таланте, а лишь в рождении, — одним их рождение давало все, других всего лишало, — такова, что мне легче их понять, чем осудить. Как историк же я могу сказать, что эти приходящие извне гонения были нужны и полезны постановке. Во время них гибли в основном те, кто уже давно, не один год имел и роли, и преимущества, с ними связанные, — следовательно, восстанавливалась справедливость, новые исполнители ни в чем не уступали прежним, а преданностью и страстностью даже превосходили их.
Гонения регулировали численность ссыльных, их становилось меньше, отношения же между ними — проще и лучше: исчезали ссоры, на нет сходила преступность, жизнь успокаивалась, вообще все, постороннее репетициям, замирало и затихало, оставались лишь они. И, главное, от гонений все, кроме тех, кто погибал, только выигрывали: одни, как захребетники, получали роли, другие, уже занятые в постановке, имели теперь старшие роли и, в сущности, не было никого, кто мог бы с чистой совестью винить написавших донос и скорбеть об ушедших. Однако лишь немногие из потрясений, которые знало село за два с половиной века своей истории, начинались с доноса и приходили извне, причина большинства, насколько я могу судить по документам, была иной.
Конечно, Сертан, приступая в Новом Иерусалиме к постановке мистерии, не мог предвидеть, что ни один из избранных им актеров не доживет до ее представления и, значит, уже совсем другим людям, никого из которых он никогда не знал и не видел, доведется, когда настанет срок, сыграть ее. Это понятно, и естественно, что в его дневниках о том, кто и по каким приметам — внешность, характер, талант — должен быть взят на ту или иную роль, ничего нет. Сам Сертан и так это знал. Есть только сделанные им для себя в первые дни работы довольно неопределенные указания возраста: для апостолов, например, двадцать — пятьдесят лет. И еще на этапе, всего через неделю после смерти Сертана общине вдруг самой пришлось решать, кому отдать роль излеченного Христом бесноватого, который утонул во время переправы через Обь. Тогда после долгих споров ссыльные сошлись, что наиболее правильным и законным будет, если роль покойного достанется его ближайшему наследнику и старшему в роду.