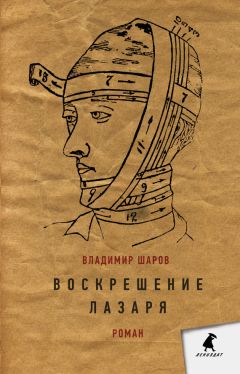Владимир Шаров - Репетиции
Конечно, Сертан, приступая в Новом Иерусалиме к постановке мистерии, не мог предвидеть, что ни один из избранных им актеров не доживет до ее представления и, значит, уже совсем другим людям, никого из которых он никогда не знал и не видел, доведется, когда настанет срок, сыграть ее. Это понятно, и естественно, что в его дневниках о том, кто и по каким приметам — внешность, характер, талант — должен быть взят на ту или иную роль, ничего нет. Сам Сертан и так это знал. Есть только сделанные им для себя в первые дни работы довольно неопределенные указания возраста: для апостолов, например, двадцать — пятьдесят лет. И еще на этапе, всего через неделю после смерти Сертана общине вдруг самой пришлось решать, кому отдать роль излеченного Христом бесноватого, который утонул во время переправы через Обь. Тогда после долгих споров ссыльные сошлись, что наиболее правильным и законным будет, если роль покойного достанется его ближайшему наследнику и старшему в роду.
Порядок, установленный ссыльными, при всей внешней очевидности и простоте мог хорошо работать, лишь пока их было мало, и скоро, едва община выросла, они это поняли. Во-первых, множество недовольных породило правило, по которому если твой отец или мать (когда роль была женская, наследование шло по материнской линии) не имел, не дожил и не дождался роли, то и его (ее) потомки теряют любые права. С годами неясным стало, и кто старший в роду: в больших семьях двадцатилетняя разница в возрасте между первым и последним ребенком часта, и поэтому дети старших братьев и сестер нередко появляются на свет раньше, чем их младшие дядья и тетки, бывает даже, что женщины кормят грудью одновременно и собственного ребенка, и собственного брата; что в данном случае должно быть предпочтено — старшинство лет или поколений — вызывало разногласия, хотя в общем ссыльные склонялись к старшинству поколений.
При назначении на роли соблюдались и еще самые разные ограничения: так, апостолами не могли быть калеки, бесноватые, уроды, те, у которых были родимые пятна, любые кожные болезни, болезни глаз и так далее. Некоторые из этих вещей, конечно, весьма и весьма неопределенны: кого считать уродом? для одних большая родинка — родимое пятно, другие, наоборот, скажут на родимое пятно, что это родинка; к сорока — пятидесяти годам в Сибири немного людей со здоровыми глазами и кожей; даже о том, кто бесноватый, а кто нет, договориться трудно. Да и как им было договориться — ведь получивший роль получал все, а не получивший до конца своих дней оставался изгоем и неприкасаемым. Люди, которые в будущем могли претендовать на место в постановке, жили, считая дни, когда у их отца и брата выйдет срок или он умрет и откроется вожделенная вакансия. Когда же этот момент приходил, уверенные в своей правоте, они не останавливались ни перед чем (избиения, убийства, подкуп, доносы), только бы заполучить роль. Насилия были часты, и все соглашались, что нужно что-то делать.
Предложение руководивших общиной апостолов, хотя и выглядело разумным, но в нем был чересчур явен их личный интерес, и другие так никогда его и не приняли. Апостолы хотели сделать ограничения возраста, введенные Сертаном, не обязательными. Они все равно беспрерывно нарушались: иногда в роду не было другого подходящего по летам наследника, или он был больной или слабоумный, не понимал и не мог выучить роль, или был игрок и вообще человек недостойный. В жесткости сроков апостолы видели одно зло, они говорили, что часто роли наследует исполнитель, который всего на несколько месяцев младше уходящего, скоро он тоже должен передать свою роль, и каждый раз это сопровождается насилием. Не лучше ли вообще отказаться от подобных коротких исполнительств и тем самым успокоить людей.
Но большинство во Мшанниках, как везде и всегда, считало, что лучше по возможности ничего не трогать, к тому, что есть, несмотря на усобицы, все привыкли, все устоялось, — известно, что любые, существовавшие долго отношения мало кто решается менять. Это консервативное начало было сильно и освящено традицией, хотя странно говорить о какой бы то ни было традиции, когда они каждый день ждали конца, каждый день были готовы к нему и лишь ради него, ради конца, жили. В сущности, они жили ради такой революции и ради такого разрыва с прошлым, с которым за все время, что человек есть на земле, и сравнить нечего. Конечно, и среди них многие хотели, чтобы в этой всеобщей гибели было больше порядка и меньше хаоса, чтобы она была разумной и правильной. Но исправлять Сертана они боялись.
Не имевшие ролей всегда считали предложение апостолов одним — хитрой попыткой занятых в постановке продлить свои полномочия и в итоге сделать их пожизненными. Все же благодаря власти апостолы рано или поздно добились бы победы, если бы не убежденность большинства в непогрешимости Сертана, не их вера, что, если они хотят, чтобы Христос действительно пришел, они не должны нарушать ничего из завещанного учителем. Они сознавали, что отход от Сертана вел к тому, что апостолами и учениками Христа были бы оставлены люди недостойные и Им, Христом, не избранные, а тех, кто были Его истинными учениками, община не допустила бы к Нему, потому что срок их апостольства, на ее взгляд, был слишком мал. И тогда Христос мог не прийти, а ведь все они — и те, у кого были роли, и те, у кого их не было, жили лишь для этого.
Написанное выше — мое первое впечатление о судьбе постановки Сертана. Как ни странно, в нем, кажется, много верного. В то время я после каждого визита Кобылина немедленно, едва дождавшись, когда он уйдет, садился читать новый принос. Я был в таком азарте, что самому себе напоминал Суворина, обыскивающего избы в поисках рукописей. У меня дрожали руки, я с трудом мог усидеть на месте, читал я очень бегло, многое просматривал и перелистывал, мне хотелось знать, чем все это завершится, разом увидеть и начало, и конец истории. Я видел, что только тогда, может быть, пойму, почему постановка Сертана продолжала жить, почему в ней было столько жизни и почему она все же погибла.
В сущности, Сертан создал новый народ и новую, ни на что не похожую общину. Рожденный им народ жил в окружении другого народа долгие годы, не смешиваясь и словно не замечая его, и в то же время все, что он делал, он делал ради этого другого народа, ради его спасения. Он жил очень сложной, взрослой и, пожалуй, даже старой жизнью, как и старость, она была обращена к концу, окружающая жизнь казалась ему неразумной и детской, но в ней, несмотря на всю ее простоту, было столько горя, что сил терпеть его уже не было, и все ждали и молили Господа о спасении. Чтобы эти малые дети не мешали спасти их, ссыльные, как могли, подстраивались под их жизнь; подобно хамелеону, они меняли цвет и становились неотличимы от всего того, что было рядом, их невозможно было ни найти, ни поймать — всеобщее равенство с другими надежно их прятало.