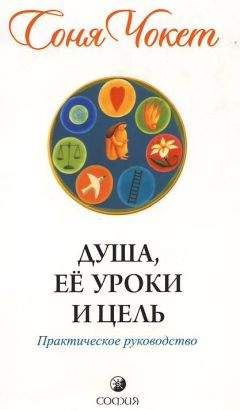Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 11 2006)
Страшный рассказ А. И. Пантелеева о гибели его друга и соавтора Г. Белых, арестованного в 37-м году. По его словам, того посадил родственник (кажется, по жене) из самых вульгарных квартирных счетов. Нечто до предела низменное и мелкое. О разговоре А. Пантелеева с этим человеком. А. И. верно говорит о множестве моральных травм, попутно нанесенных террором, — о том, о чем он сам еще не имеет мужества ни писать, ни говорить. Что-то о Маршаке в этой связи. О ссорах Житкова с многолетними друзьями. Туманно, но я почти угадываю.
В писательском доме работал плотник, делавший книжные полки одному драматургу. Однажды он спросил хозяина, правда ли, что в этом доме живут одни писатели. «Да, правда, — сказал хозяин. — А что?..» — «Вот я думаю, что не стал бы жить в доме, где живут одни плотники. Скучно!..»
«Быть умным — значит не спрашивать о том, на что нельзя получить ответ. Быть счастливым — значит не желать того, чего нельзя получить». Это запись из дневника В. Ключевского. Это, конечно, верно, но самые гениальные и замечательные люди как раз поступают противоположным образом: спрашивают о том, на что нет ответа, и требуют того, что невозможно.
«Славянофильство — история двух-трех гостиных в Москве и двух-трех дел в московской полиции».
В. Ключевский.
Наступил момент, когда все конъюнктурщики начали писать пьесы о вреде алкоголизма. Тут не надо было ехать за матерьялом куда-то на целину.
М. Зощенко сказал о Н. К. Чуковском: «В хорошие времена он хорош, в плохие — плох, в ужасные — ужасен»...
Драматурги приезжали в Ленинград стайками на промысел. Они селились в Европейской и, пока были деньги и в предвидении грядущих авансов, угощали друг друга, а также туземных завлитов и главрежей обедами и ужинами. Главрежам они лояльно хвалили друг друга, читали в театрах свои пьесы, раздавали заготовленные в Москве экземпляры, покупали женам главрежей цветы. Дни шли, а с договорами все как-то тянулось, и деньги постепенно кончались. Тех, у кого кончились раньше, кормили другие. Потом кончились у всех, и уже не на что было вернуться в Москву. Тогда было заключено товарищеское соглашение, что тот, кто первым получит аванс, даст взаймы остальным. В одно прекрасное утро драматурга Ф. недосчитываются. Что с ним? Умер с голоду? Повесился в ванной от зависти к драматургу А.? Звонят ему. В номере живет уже кто-то другой. Звонят в театр, с которым он вел переговоры. Выясняется, что он еще вчера получил аванс и тайно выехал в Москву. Возмущенье. Отчаянье.
Поздней осенью 1939 года в Москве модницы начали носить остроконечные вязаные дамские башлычки, занесенные к нам после вступления Красной армии в Западную Украину и Белоруссию.
Путь, приведший к удаче, обычно кажется верным. Но представим, что где-то делу помогла случайность, незапланированная и непредставимая до этого. Однако и она зачисляется в закономерности. А когда после другие хотят идти подобным путем и случайность не попадается, удачи больше нет и очень трудно понять, почему. Здесь уязвимость прагматизма: он обманывает сам себя. Под этим углом исследовать 1917-й год.
История мяла нам бока и тем самым убеждала в своей реальности. Эрудированный книжник Миша, кричавший, брызгая слюной, что история — это «призрак мифа», осенью 37-го года поехал в телячьем вагоне на Колыму, в далеко не призрачный край.
…Он принадлежал к способному и сравнительно благополучному поколенью, которое научилось вносить почти неподдельную и щемящую искренность в неукоснительное исполнение суровых государственных предписаний. Во главе его стоял талантливый Сергей Герасимов (кинематографист). Он, как и некоторые другие, достиг вершин славы, произнося самую отъявленную лесть с той интонацией, с которой говорятся парадоксы и дерзости. Он и его последователи гениально изображали, как будто им только что, ненароком, явились те мысли, которые уже четверть века с лишним печатались во всех календарях, как отрывных, так и настольных. При этом они застенчиво улыбались, словно извиняясь: вот, мол, что я сейчас сморозил... Они симулировали импровизации, инсценировали внезапные озаренья в том мире, где все было рассчитано, как в часовом механизме...
Из комаровского фольклора: дежурная горничная по этажу, убиравшая утром комнату, говорит вернувшемуся из столовой ее обитателю: «Я ваше бибиси с окна на стол поставила»32...
Когда в начале 1950-х Мейлах33, получивший Сталинскую премию, строил в Комарове дачу, то Б. М. Эйхенбаум, глядя на строительство, сказал: «Ампир во время чумы...» А Молдавский34 добавил: «Спас на цитатах...» (Рассказано Д. Молдавским.)
Антиморализм и аморализм — вовсе не синонимы.
Из рассказов Н. П. Смирнова35. О том, как однажды Луначарский в редакции «Нового мира», услышав убедительный рассказ о том, что одна из внучек Горького фактически его дочь, так разволновался, что снял пенсне и столь яростно стал протирать их, что сломал. Он говорил: «Как этот человек разложился!..» Интересно, какая же из внучек? Я уже слышал это и допускаю это, при всей любви Горького к сыну, он мог быть снохачом.
Прейскурант «Коктейль-холла» читался как роман... Малиновая наливка в графине «Утка», охотничья водка в плоской бутылке, шартрез в испанской бутылке, ликер «Мараскин» в графине «Мороз», «Ковбой-коктейль», коктейль «Аромат полей», коктейль «В полет», «Аэроглинтвейн»...
Последние номера перед закрытием ресторана музыканты доигрывали, зевая, разговаривая друг с другом, как бы совершенно не обращая никакого внимания на зал. Барабанщик между ударами проникновенно чистил ногти. Но — самое удивительное — музыка текла без перебоев, по какой-то волшебной инерции, ничуть не менее слаженная, чем в начале вечера...
Я помню исторический момент, как впервые прозвучала острота: «Жираф — это сумбур вместо лошади». Это было весной 36 года, вскоре после известной статьи. Сказал это А. Д. Дикий в подвальчике «Тбилиси». Третьим был Миша Светлов36.
О. М. Брик об Асееве: «Это человек одновременно сентиментальный и бессердечный». (В разговоре. Осень 1940 г.)
Про художественную выставку, помещающуюся в бывшем Манеже, москвичи говорят: «Когда там находились лошади, говна там было меньше».
— Хорошая пьеса, только немного слабовата по линии драматургии, — как сказал один театральный директор.
Когда С. М. Эйзенштейну незадолго до его смерти рассказали, что Марку Донскому поручено в кино ставить новый вариант горьковской «Матери», то он спросил: «А кто же будет ставить „Броненосца ‘Потемкина‘”?»
Если вдруг опрокинуть решето с картошкой, то наверху окажутся те клубни, которые раньше были внизу. Эвакуация тоже перемешала писательский мир, и в Чистополе наилучшим образом оказались устроенными совсем не те, кто лучше других жил в Москве (исключаю немногих лауреатов, приехавших с крупными сбережениями и встреченных особым вниманием райкома). Во-первых, это те, кто приехали чуть-чуть раньше, т. е. до драматических событий октября, и, во-вторых, те, кто оказались обладающими особой провинциальной ловкостью, которая совсем не то, что ловкость столичная, с иными навыками, связями, ходами. Маленькие писатели А. П. и М. Е. живут по-царски. Пастернаку такой быт и не снился. Оказалось, что П. и Е. здесь все умеют, все понимают, всего легко добиваются. Но, конечно, при новом перемешивании, если произойдет реэвакуация, наверно, снова все восстановится и П. и Е. окажутся внизу, а другие наверху.
Есть всего два способа работы в искусстве: импровизация и подвижничество... Это я услышал однажды от В. Э. Мейерхольда и чем дольше живу, тем больше понимаю, как это верно и умно.
Оказывается, этот парикмахерский текст «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…» написал Альвэк37, тот самый непримиримый Альвэк, который был другом Хлебникова и имел претензию считаться его единственным душеприказчиком и наследником.
Из рассказов Е. Н. Верейской38. М. Добужинский был близорук. Поэтому он как бы всегда смотрел щурясь и свысока. Его считали гордецом и суровым человеком из-за его замкнутости, которая на самом деле прятала его страшную застенчивость. Однажды муж Е. Н. сказал ему: «Знаете ли вы, как вас боятся ваши ученики?» Добужинский ответил: «Знают ли они, как я их боюсь?»...