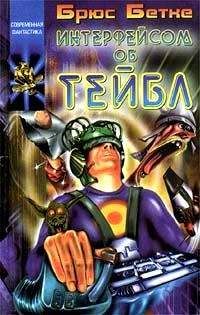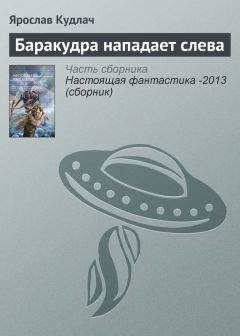Мартин Бедфорд - Работа над ошибками
Я-то всегда беру одиннадцатый, но девятый такой удобный, что я ношу десятый. Папаша. Одна из его шуточек.
Мистер Бойл не улыбнулся.
(Я показал на себе.) Ну, дружок, к чему присоединяются кости стопы?
Я…
Давайте, не ждать же мне вас целый день.
К фалангам пальцев ноги.
Так, так. А может быть, к голеностопу? Вот видите, все зависит, да, да, да… От перспективы и от точки зрения. От того, в какую сторону вам будет угодно посмотреть. Вы не согласны?
Я нашел на полу его очки. Одна линза треснула, оправа слегка погнулась, но я тем не менее умудрился их надеть. Все вокруг расплылось, как если бы я смотрел на комнату сквозь аквариум с водой. Я подобрал с пола ручки и одну за другой прицепил их к карману пиджака. Сорвал путы с мистера Бойла. Велел ему встать и одеться в мою одежду, разбросанную по партам и спинкам стульев. Голый мистер Бойл, спотыкаясь, долго бродил между ними, пока наконец его костлявое, скукоженное тело не скрылось под моими вещами.
И куртку, сэр. Такая хорошая куртка. Теплая.
Он надел мою куртку, застегнул «молнию». Я приказал накинуть капюшон и затянуть под подбородком завязки. Он сделал и это – и долго возился со шнурками окоченевшими пальцами, пока наконец ему не удалось создать нечто похожее на бантик. Я протянул ему нож, рукояткой вперед. Он почему-то не хотел его брать, но я настоял. Он держал его осторожно, испуганно, словно тот был сделан из тонкого фарфора или папиросной бумаги.
Будьте добры, откройте жалюзи.
Простите?
(Показывая.) Жалюзи.
Он шаркал, как человек очень старый, измученный, плохо соображающий от голода и усталости, человек, тело которого застыло от холода и долгой ночи, проведенной связанным на пластиковом стуле. Когда он приблизился к окну, я сел на его место. Жалюзи, с громким шуршанием, одна за другой поднялись вверх, и комнату залил яркий, пронзительный свет.
Помашите им, мистер Бойл.
Кому?
Полицейским, вон там, на площадке. Видите их? Покажите, что вам удалось завладеть ножом. Дайте им понять, что все кончено.
Он повернулся ко мне, всем телом – так, чтобы ему не мешал смотреть на меня капюшон куртки. Моей куртки.
(Я улыбнулся.) Все нормально. Нормально.
Учитель повернулся обратно к окну. Я больше не видел его лица, но по тому, как он замер, – и по еле заметным движениям головы – понял: он пытается разглядеть полицейских в ослепительном утреннем свете. Тело мистера Бойла напряглось, из его горла вырвался странный звук, и он резко вздернул руку. Руку с ножом. Мистер Бойл принялся неловко размахивать им над головой из стороны в сторону. Лезвие сверкало на солнце. Он плакал – я это слышал. Из его горла доносились звуки, которые бывают, когда человек плачет. А потом окно взорвалось.
На картинке (№ 7, наугад выбранной мистером Эндрюсом) мистер Бойл падает лицом вниз сквозь разбитое окно и – сделав в воздухе сальто – нелепой кучей валится на спортплощадку. При ударе о землю его голова раскалывается, как спелый фрукт. На картинке по пиджаку в области сердца расплывается аккуратное багровое пятно. Только все было не так. Все было не так, как предсказывали картинки. Вот как это было: он пошатнулся, отступил на два шага от взорвавшегося окна, сумел на мгновение восстановить равновесие и только после этого тяжело рухнул на собственный стол. Стол покачнулся, книги, мел посыпались на пол, а мистер Бойл остался на столе в не то сидячем, не то лежачем положении, с головой и плечами, усыпанными перхотью осколков. Вот как это было: пуля снесла мистеру Бойлу нижнюю часть лица и превратила его горло в краскопульт, который продолжал перекрашивать черную доску в красный цвет, даже когда они уже взломали дверь.
Эпилог
Его сожгли. Четыре месяца назад, промозглым утром, в октябре. Было холодно, но сожгли его не для тепла.
Я на похоронах не присутствовал. У меня были другие дела, и потом, я – персона нон грата, я не получил приглашения. Я не рисовал картинок про кремацию. Но вполне могу себе представить, как миссис Бойл стоит на коленях в парке крематория и подносит ко рту пригоршню пепла. Вполне могу себе представить.
Образ мистера Бойла я храню у себя в голове: одинокая фигура на фоне окна, отбрасывающая на пол длинную косую тень. Он стоит ко мне спиной, в куртке с накинутым капюшоном. В моей голове хранится также образ классной доски, заливаемой кровью, и четырех написанных мелом букв, скрывающихся, исчезающих под алой пеленой, обретающей, из-за черноты доски, цвет бургундского вина. А доска на самом деле не черная, а темно-темно-зеленая.
Я спрашиваю, будет ли полицейскому снайперу предъявлено обвинение в убийстве. Адвокат пристально смотрит на меня и – даже когда я повторяю вопрос – не отвечает. Вместо ответа он пытается вернуться к тому моменту разговора, начиная с которого мы, как он выражается, отклонились от темы.
И все же, это ведь интересный вопрос, не так ли? Кто именно его убил.
Грегори, мы это обсуждали ad nauseam.[11]
Но ведь не ad же infinitum.[12]
Вот так и выходит, что меня, помимо всего прочего, обвиняют в непредумышленном убийстве, а полицейского, спустившего курок, ждет всего-навсего служебное расследование. Получит ли он дисциплинарное взыскание, остается неясным – это зависит, в частности, от результатов судебного расследования, а суд прежде всего должен будет вынести приговор мне. Таким образом, наша – его и моя – вина (или невиновность) связана неразрывно. Адвокат изрекает:
Говоря строго, в данном случае не имеет значения, кто именно произвел, э-э, выстрел. В юридическом смысле.
Он говорил это и раньше, теми же или похожими словами. Он утверждает, что причиной смерти мистера Бойла являюсь именно я, потому что обстоятельства, повлекшие за собой его смерть, были созданы не кем иным, как мною. Намеренно или нет, вот в чем вопрос. Мои действия – их явную продуманность – Корона будет интерпретировать как неопровержимое доказательство преднамеренности. А защита постарается перенести акцент на мое душевное состояние. В результате все повиснет на крючке, с которого я соскочил. Что же касается снайпера, то он получил приказ стрелять – и в случае необходимости убить – при любой возможности. А я предоставил ему такую возможность.
(Я улыбаюсь.) Но ему было приказано стрелять в меня.
Адвокат пожимает плечами.
Присяжные рассмотрят представленные свидетельства, вынесут заключение по поводу целей, которые я преследовал там, в школьном кабинете, – и по поводу моей аранжировки событий – и установят, насколько я способен нести юридическую ответственность за их последствия. Поставят мне итоговую оценку, так сказать.
Убийство человека.
Лишение человека жизни.
Разные способы сказать одно и то же.
Назначили день первого заседания. До начала процесса я уже несколько раз представал перед магистратом. Адвокат, вопреки моим четко выраженным указаниям, «забыл» сделать запрос о снятии ограничений для прессы на время предварительных слушаний. Поэтому газетам в своих сообщениях придется ограничиваться всего лишь парой абзацев, где будет указано мое имя (Грегори Линн), возраст: тридцать пять лет, род занятий: временно безработный, адрес; предъявленные мне обвинения и прочие самые обычные процессуальные сведения. Подобные ограничения вводятся для того, чтобы гарантировать беспристрастность суда присяжных. Однако, заверяет меня помощница, стоит начаться судебным слушаниям, как газетчики сорвутся с цепи. А пока этого не произошло, они с адвокатом прикладывают все усилия, чтобы выработать план защиты и подготовить меня к даче показаний. А я только и делаю, что пытаюсь им помешать.
Наука имеет дело с вопросами, а не с ответами. Наука ничего не принимает на веру. Она отвергает догмы. Она спрашивает, «как», «что» и «почему». Приступая к проведению эксперимента, вы понятия не имеете, чем он закончится. Это я понял сам. А не выучил в школе.
Искусство тоже задает вопросы и тоже не дает ответов. И ничего не принимает на веру. Отвергает догмы. Спрашивает, «как», «что» и «почему». Приступая к написанию картины, вы понятия не имеете, что у вас получится. Это я понял сам. А не выучил в школе.
Перспектива Линна:При проведении эксперимента вы (ученый) влияете на объект исследований, измерений или испытаний самим фактом своего присутствия. Вы – фактор. Вы – как физически, так и морально – вкладываете себя в свою работу. И ничем не отличаетесь от художника, который каждым своим мазком оставляет на холсте несмываемый автограф.
Вот темы, которые я пробовал обсуждать с мистером Бойлом во время нашей вынужденной близости, вот что я пытался донести до его понимания.
Я не против науки, сэр, я против того, как вы ее представляете. Черное и белое, верное и неверное. Победа фактов над факторами. Вы ни-си-му нас не учите.