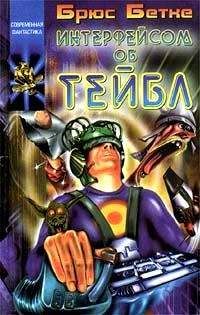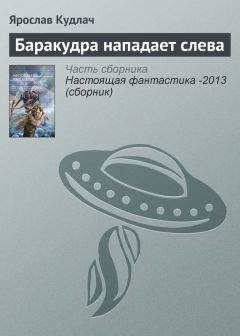Мартин Бедфорд - Работа над ошибками
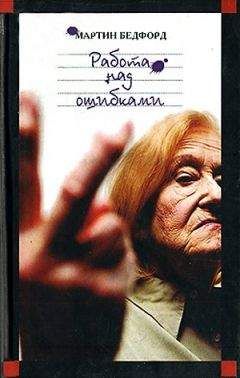
Обзор книги Мартин Бедфорд - Работа над ошибками
Мартин Бедфорд
Работа над ошибками
Посвящается Дамарис
Английское слово «education» («образование») происходит от латинского «ех» – «из» и «duco» – «я веду» и, следовательно, означает «вывожу из». Для меня образование – это выведение на свет божий всего, что успело скопиться в душе ученика к началу обучения. А для мисс Маккей суть образования в том, чтобы вложить в ученика нечто новое, то, чего в нем нет, но я называю это не образованием, а впихиванием, «intrusion», еще одно слово латинского происхождения, где приставка «in» означает «в», а основа «trudo» означает «я пихаю». Метод мисс Маккей – напихать в голову ученика как можно больше информации; мой метод – извлечь знание. В этом и заключается истинный смысл образования, если верить буквальному значению этого слова.
Мюриэл Спарк «Мисс Джин Броуди в расцвете лет»Это было неглупо, но учитель все равно побил его, чтобы показать, что определения принадлежат тем, кто их дает, а не тем, для кого их дают.
Тони Моррисон «Возлюбленная»Пролог
Ее сожгли.
Двенадцать месяцев назад, морозным утром, в январе. Было холодно, однако сожгли ее не для тепла.
Мне выдали маленькую урну, и мы вышли на улицу, под серо-белое небо. Дыхание, вырывавшееся из наших ртов, повисало в воздухе облачками видимого шепота. По гравиевой дорожке мы прошли к клумбам, к месту, обозначенному возле ощетинившегося голыми ветками куста роз. Я встал коленями на заиндевевшую землю. Из мерзлых комьев торчала пластиковая табличка, на которой черными буквами было оттиснуто ее имя:
«МАРИОН ЛИН»Фамилию написали неправильно: одно «н» вместо двух. Я снял с урны крышку, зачерпнул пригоршню пепла. Раскрыл ладонь. Пепел, подхваченный ветром, серебряным конфетти закружился над головами собравшихся. Все принялись отряхиваться. На темных пальто оставались размазанные следы.
Ниже, сказал кто-то. Опусти ниже, потом высыпай.
Я набрал еще пригоршню, поднес ко рту. Хлопья были гладкие, шелковистые, растворялись на языке, но, когда я попытался их проглотить, в горле сделалось очень сухо. Частички, хрупкие частички – ее и гроба. Вкуса у них не было.
Грегори, перестань. Давай-ка.
Чьи-то ладони на моих плечах. Меня поднимают, отводят в сторону. Кто-то разжимает мои пальцы, высвобождает урну. Она падает у дорожки на покрытую изморозью траву. Чья-то рука чуть подталкивает меня в спину, колючие жесткие волосы цепляются за щетину на моей щеке, там, где я плохо побрился. Костлявые женские пальцы вытирают носовым платком мои губы. Пахнет духами и помадой.
Поплачь, милый. Поплачь.
Я не плачу. Звуки, которые издает мое горло, совсем не такие, как бывает, когда я плачу.
Сэндвичи. С чеддером и помидорами, с рыбным паштетом и огурцами, с ветчиной; ровные ломтики белого хлеба. Чипсы в стеклянных вазочках. Чашки с чаем. Тишина, изредка прерываемая невнятным бормотанием. Я сидел и смотрел, как едят, ждал, пока уйдут. Тетя – это она позаботилась о еде – ушла последней. Помыла посуду, расставила по местам стулья, надела пальто, шарф, перчатки, шляпу. После, уже на пороге, наговорила всяких слов – сказала, что теперь Марион будет жить у Боженьки. Она прижала меня к себе, а потом ушла, и я закрыл дверь.
Наверху, у себя в комнате, я отпер ящик стола, достал карандаши и альбом. Пролистал до первой чистой страницы. Написал день, дату. Нарисовал квадратики – шесть, два ряда по три, – потом сами картинки, потом раскрасил. Никаких облачков с мыслями, никаких облачков со словами; комиксы рассказывают всю историю сами. Люди в черном, сидящие рядами на церковных скамьях; гроб, исчезающий за шторками (это трудно – нарисовать шторки в движении); красные, оранжевые, желтые языки – огонь, толстые черные спирали – дым; люди, столпившиеся у розового куста; один человек – в стороне от остальных – на коленях, высыпает под корни пепел; плачущий мужчина – бледно-голубые слезы на розовом лице. На соседней странице я нарисовал красивую темноволосую женщину – вертикально, руки по швам, в летнем платье; запрокинутое лицо, остро вытянутые вниз, как у балерины, ступни. Глаза закрыты. Она поднимается в небеса. Только я не знал, как нарисовать небеса, и у меня получилась женщина, плывущая в воздухе. Парящая.
Меня зовут Грегори Линн. Мне тридцать пять. Я сирота, холостяк, с четырех с половиной лет – единственный ребенок в семье. Размер обуви двенадцатый. Рост шесть футов два дюйма, вес – тринадцать стоунов восемь фунтов. Меня нельзя назвать неуклюжим, но иногда мое тело неправильно воспринимает сигналы, посылаемые мозгом. У меня один глаз карий и один зеленый.
Альбома, где я запечатлел похороны моей матери, у меня больше нет. У меня их вообще ни одного не осталось. Их конфисковали и будут использовать как улику, правда, непонятно, кому они окажутся полезнее – защите или обвинению. Моего адвоката интересует только то, как они раскрывают мою «личность», художественные достоинства его не волнуют. Значимость моих рисунков от него также ускользает, точнее, он видит ее в другом. У меня с головой все в порядке, но с помощью альбомов адвокат хочет попытаться доказать обратное. Добиться смягчения, как он выражается. Да уж, если этот человек за меня, представляю, что по моему поводу скажет Корона. Я спрашивал, будут ли мои рисунки во время суда или после него напечатаны в газетах. Он уверен, что нет. Но я не теряю надежды. У меня в комнате было пятьдесят семь альбомов, по сто пятьдесят листов в каждом. В них рассказано обо всех событиях моей жизни за последние двадцать три года и шесть месяцев. Суду, правда, будут интересны только самые последние тома. А ведь у меня, кроме альбомов, еще масса набросков, картин, коллажей в блокнотах и на отдельных листах плюс огромное собрание вырезок – и в комодах, и в шкафах, и в коробках, и под кроватью, и на гардеробе, и на полу, и на стенках. И разумеется, они нашли карты, фотографии и папки с отчетами по каждому эпизоду; впрочем, меня в любом случае признали бы виновным, что с вещественными доказательствами, что без. Мотив и душевное состояние им определить, может, и трудно, но улики, прямые и косвенные, неоспоримы. Факт: это сделал я. Я, Грегори Линн (сирота, холостяк, с четырех с половиной лет – единственный ребенок в семье). Я там был. Это подтверждено свидетелями, доказано следственными экспериментами. Я это сделал. Кто, что, где, когда и как – все установлено. Всё – факты. Нет только ответа на вопрос «почему?». Но от «почему» обвинительный вердикт не станет оправдательным, «почему» может повлиять лишь на срок приговора. «Почему» – смягчающий фактор. Смешно – мистер Бойл оказался прав (хотя едва ли это может служить ему утешением): все сводится к фактам и логике, все и всегда. Всему есть научное обоснование. Факты исключают сомнения. И тем не менее я, вопреки рекомендациям адвоката, намерен заявить о своей невиновности. Я не отрицаю, что совершил те поступки, которые легли в основу судебного обвинения, но все-таки не понимаю, что они имеют в виду, когда говорят о преступлении и невиновности так, будто бы это антонимы, взаимоисключающие понятия. У меня один карий глаз и один зеленый.
Хотя мы с адвокатом и расходимся во мнении относительно этого «сложного момента», он признает – правда, неохотно и с некоторым удивлением в голосе, – что я продемонстрировал способность быстро разбираться в юридической терминологии и основах судопроизводства. Дело в том, что, если меня интересует какой-нибудь вопрос, я в него погружаюсь. Впитываю. Изучаю. А если не интересует, то нет. Но ведь это не значит, что я тупица. Учителя (кое-кто – и, в частности, мистер Бойл) говорили, что мне следует искоренять слабости, одолевать трудности, развивать потенциал. Имелось в виду следующее: мозги не лампочка, их нельзя включать и выключать. Нельзя? Черта с два! Посмотрите, как я спланировал и довел до конца свою работу над ошибками. С изобретательностью и оригинальностью, которую поняла и оценила бы мисс Макмагон, не говоря уж о мистере Эндрюсе; с точным расчетом и тщательной методичностью, на которую некоторые уроды, вроде мистера Бойла, считали меня неспособным.
Кстати о мистере Эндрюсе.
Он видел мои картинки. Мои комиксы. Он знает об их художественных достоинствах и, более того, понимает их значимость. Он ближе других (если не считать меня самого) подошел к пониманию того, «почему». Он не должен бы рассуждать в терминах «преступник и жертва», «вина и невиновность». Ему, как и мне, должно быть очевидно, что эти понятия связаны друг с другом – неразрывно, как настоящее связано с прошлым. Ему, как и мне, должно быть очевидно, что горы рисунков в моей комнате и есть истинное свидетельство по моему делу, даже если они не могут считаться уликами. И все-таки на процессе мистер Эндрюс будет выступать свидетелем обвинения.