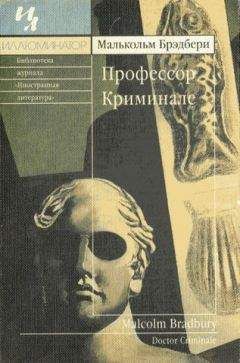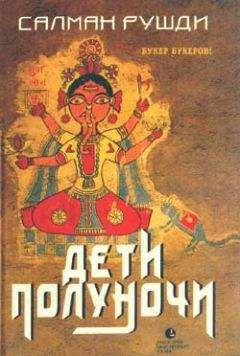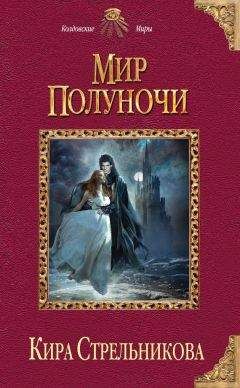Сергей Самсонов - Проводник электричества
Она везде, ей неоткуда взяться, она течет, как лава, и обреченно застывает, как кристалл… свободно и без спроса поступает в сознание огромным воздухом, водой, непрошеной благодатью, и остается только подчиниться этой силе и проводить ее и разгонять всем существом, став резонирующей частью законченного целого.
Я ничего не понимаю, и мне не нужно понимать… я знаете ли, жертва музыкальной школы — ну, упражнения Черни там до ломоты в костях от пальцев до плеча, крещендо в середине фразы, легато, пронто, пианиссимо и прочее хое-мое до полного обызвествления мозга… так вот, все те законы звукоизвлечения, которым там меня успели научить, по отношению к этому звучанию не действуют, не могут быть к нему приложены… и хоть как рыба головой об лед — не можешь дать ты этому биению ни объяснения, ни названия.
Одно и то же чистое тихое трезвучие, которое природа перебирает так, как домработница теть Таня рис или крупу… так вот, смысл в том, что в гречневой крупе вы не найдете и двух зернышек, которые бы были совершенно одинаковыми… втыкаете, о чем я, дубельты?.. любой из прорвы беспрестанных неукоснительных повторов взрывается страшенной чистотой, которой еще не было и более не будет… идет как бы шлифовка грязного алмаза — он уже чист, сияет, но вот еще один удар, еще одно ничтожное, на долю грамма, изменение, и то, что представлялось чистой водой, опознается слухом через дление кратчайшее уже как муть, как грязь. И это продолжается и продолжается, пока я ученик спецшколы для музыкально ограниченных детей, стою на грани тишины и пения, не в силах двинуться ни вспять, ни по ту сторону.
Не знает мир времени. Я вздрагиваю, будто пробудившись, и вижу, что Мартышка сейчас испытывает то же, что и я… вообще она ломака страшная, все время так следит за красотой выражений, поз, но на губах ее сейчас свободно проступает признательно-растерянная тихая улыбка — непогрешимо верный знак того, что позабыла, где кончился сам человек и где простерлось вширь и в высоту все остальное… что плоть ее уже замещена молчанием промороженной земли, молчанием сияющего снега, стального света неба, запрудившего улицу и город; во взгляде, обращенном внутрь, живой водой плещется немое восхищение; с такой улыбкой и с таким лицом ждала меня когда-то, верно, мать, кладя взволнованную руку на грузно округлившийся живот.
— Пойдем на насыпь, — говорю я ей, когда она, очнувшись, замечает, что я слежу за ней странными глазами.
— Ты что — опять? — Мартышка злится, оттопыривая облизанную, словно барбариска, нижнюю губу.
— Чего опять?
— То, то опять. Всю совесть прокатал уже.
— Послушай, — говорю, — когда я говорю «пойдем на насыпь», то это то и значит, что мы немного постоим и поглядим на поезда.
— Школа — там, — она показывает направление кивком. — Мне надоело врать твоей Грозе, что ты болеешь… я скоро окосею от вранья. Смотри, погоришь.
— Покачусь по наклонной, свяжусь со шпаной, пойду бродяжничать, замерзну под забором. Да иду я, иду, — говорю. — Чего, за три минуты не дотопаю? А ты иди, если тебе охота перед Робкой сверкануть.
— Чего? — Она шипит. И все, махнув рукой на меня, — того-то мне и надо — шагает в нашу детскую колонию общеобразовательного среднего режима, в юдоль дисциплинированной скуки и каторжного прилежания — зависеть и терпеть, держать и ненавидеть под отупляющий зудеж и стрекот ламп дневного света, и распинаться у доски, и втягивать ноздрями тошнотный запах хлорки, крошащегося мела, мокрой ветоши, и утыкаться носом в крышку парты, чувствуя, что бедный мозг уже не в силах привести к порядку жужжащий рой чернильной, меловой цифири, и увязать в мещерских, чтоб он сдох, болотах Паустовского… нет, есть, конечно, в школе свои плюсы, у плюсов есть ласкающие имена; подъюбочные, скрытые трусами и чулками подробности строения этих плюсов мы с Фальконетом изучаем при помощи круглого карманного зеркальца, которым Пашка наловчился с непроницаемой мордой манипулировать под партой, недрожащей рукой наводя на гладкие и белые, как сливки, припухлые волнующие ляжки сидящих за нами Шкиляевой с Кальдиной… такие толстые… ну, там, уже под абажурами… что, видно, трутся друг о дружку при ходьбе… весной уже никто не поддевает под платье чулки и рейтузы, вот мы и ждем минуты первых обнажений, как пьяница Саврасов — угольных грачей в бессолнечном небе весеннего дня.
4
— Скажи, как ты воспринимал такое раннее признание? Вот этот венчик вундеркиндства — это вот что вообще такое?
— Ну да, такой «маэстро в красном галстуке». Когда я не прогуливал, я все же занимался как-никак, играл Шопена в основном, которого терпеть за эту вот поганую душевность… ну то есть мне давали Шопена постоянно за то, что он такой вот революционный автор, который как бы против ненавистного царизма, и под него у нас тем более хоронили вот этих всех, с трибуны Мавзолея… ну вот, играл ноктюрны, значит, и вдруг мне говорят: поедешь защищать честь школы на конкурсе московской пионерии. Конечно, мать торжествовала: то, ради чего со мной обошла десятки разных педагогов, сбываться начало с какой-то необыкновенной силой, и я себе под это дело выбивал магнитофон там новый беспроблемно, какой-то туристический там ножик, на который давно уже слюни пускал…
— Прямо какая-то растительная жизнь. Магнитофон-то был зачем тебе необходим? Я понимаю, фетиш поколения. Бобинный, да? «Комета»?
— Ага, он самый, мировая вещь. «Комету» наши ведь слизали с «Грюндига», как «Красную Москву» с «Шанели № 5». И обладание этой штукой делало тебя ну просто существом с другой планеты. Вот что такое был на деле венчик избранности, да. К тому же я тогда как раз услышал «Битлз», и это было как… подобно тектоническому сдвигу, великим приливным явлением, пульсацией, взошедшей откуда-то из глубины земли… по силе выброса в сравнении с этим ничто, конечно, в классике и рядом не стояло. Это как будто дьявол бьется в преисподней и бьет в кору рогатой башкой изнутри, в кору и в стенки твоего вот черепа… ну то есть не дьявол никакой, конечно, а некая энергия, которую и «эросом»-то было глупо называть, настолько она все в тебе мгновенно поднимала дыбом.
— Вот, значит, как? И как же уживались между собой академическая строгость и это рок-н-ролльное бунтарство?
— Я, по правде сказать, тут не видел проблемы. Ты слышал, как, к примеру, тот же Гульд играет баховскую прелюдию до мажор? Если немного взвинтить темп, то это будет самый форменный, отъявленный, чистейший рок-н-ролл. Проблема же совсем не в технике, ведь звук не в ней.
— А сколько быиполет тебе тогда?
— «Тогда» — это когда? Ну, это был 67-й, по-моему… ну или, может, 66-й, еще до появления у нас «Сержанта Пеппера».
— Нет, в смысле — время твоих первых пианистических триумфов.
— Ну, это все, по-моему, происходило практически одновременно.
— В тринадцать лет, в четырнадцать?
— Ну да. Ну то есть это все гораздо раньше началось — «маэстро в алом галстуке», все эти фотографии в газетах, вот в этом фрачке идиотском там, да. Потом уже как поросенка стали возить по выставкам советских достижений в Варшаву там, в Париж, в Брюссель.
— Ну вот и расскажи, что происходит в сознании почти ребенка, когда он видит, что вокруг него царит такое возбуждение, такая истерия вообще.
— Ну, элемент аттракциона во всем происходящем был велик необычайно, вот в этой ситуации с ребенком, да, который еле-еле достает ногами до педалей. Цирк лилипутов, да, такой, когда приходят люди на концерт и говорят друг другу: только вдумайся, ведь он же тоже срет, но только поменьше, чем мы. То есть дело как бы и не в звуке было, а в этой вот табличке, да, «через решетку не кормить».
— Ты это чувствовал?
— Ну да, такую концентрированную похоть, глумливый интерес. Тут дело в чем: ты в ситуации концерта вынужден все время реагировать на эти человеческие примеси, и нужно очень много тишины и одиночества, повторов двух одних и тех же первых тактов, пока… ну, из-под всех вот этих наслоений не покажется хоть краешек чего-то настоящего. То есть я, наверное, с самого начала подсознательно не мог и не хотел считать себя профессионалом, да, который существует в рамках этого театра, вот в этой ситуации, ну, абсолютно противоестественной, когда в специальном месте и в назначенное время, с семи до десяти, специально собираются две тысячи людей во фраках и нарядных платьях, и это у вас всех такая трудная и напряженная работа. И мне это казалось каким-то необыкновенно глупым делом — вот это, да, обособление, выделение, изъятие музыки из мутного, горячего, нечистого потока самой жизни. Как есть, ну, девственные дебри, да, и есть какая-то оранжерея. А мне казалась как? Что музыка, наоборот, должна звучать везде и постоянно… ну так, как это раньше, собственно, и было, на улицах и в церкви, на пашне, на танцульках, на войне. Ну вот выходят, да, крестьяне утром в поле — у них там полоска не сжата, и как-то в лом им впахивать, и жарко, и не хочется… вот тут и надо, собственно, запеть такую будоражащую песню, веселящую, какой-то ритм поймать, дающий понимание, что погодить нельзя, что надо пожинать сейчас, а завтра будет поздно… и все, и руки сами просятся в работу, инстинкт какой-то изначальный оживает, который поколениями врабатывался в мускулы и кровь, вколачивался специальной мобилизующей музыкой. Вот это ощущение незыблемости, да, естественного хода и естественного срока, единства своего с дыханием земли и гибелью зерна. И точно так же и везде, вот тот же рок-н-ролл — девчонкам и мальчишкам, им надо как-то сблизиться, и, значит, время заиграть шизгару, играешь — бац, все намагничены, притянуты друг к другу по принципу разноименности… а для чего еще были нужны все эти вакханалии?.. да это чистый праздник жизни, осеменения, зачатия, чадородия. То есть музыка, она всегда поддерживает что-то, укрепляет, она не может быть не прикладной, и самой большой ошибкой было когда-то превратить ее в самостоятельный продукт, который предназначен для эстетического, да, переживания. Когда ты вырываешь звук из изначального контекста, из ритуала вызывания дождя, то звук утрачивает собственные свойства и превращается во что-то вроде фотографии на фоне сфинксов или Эйфелевой башни… То есть этот момент ритуальности, он очень важен, абсолютно, но мы об этом можем только вспоминать, мы и вспомнить, вернее, о нем теперь толком не можем.