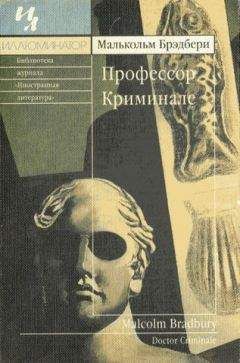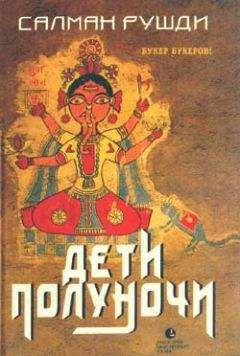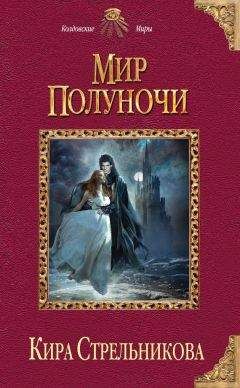Сергей Самсонов - Проводник электричества
— То есть органика, все это было органичным с самого начала, прирожденным?
— Чего прирожденным? Хождение в музшколу прирожденным? Я проклял на хрен этот день, когда мне мама объявила… я понял, что конец всему, конец футболу, да, конец велосипеду. Ведь это было что? Тебя гвоздями «надо», «горения» и «служения» приколотили чуть ли не навечно к этому вот ящику. Вот ты сидишь и тебе долбят: «си — четвертым пальцем, си — четвертым пальцем, а ты берешь соль вторым, идиот, сколько раз тебе повторять?»… ну и так далее и так далее. Ну, то есть мне нравилось, конечно, придумывание звуков, я что-то тренькал на рояльке, подбирал, а еще больше мне по нраву было простое слушание, да… ну, как бы созерцание такое акустическое, у нас же рядом с домом была железная дорога, и все вот эти звуки, содрогания, скрипы таинственных железных механизмов — я этим попросту кормился… ну, то есть это состояние отрешенности, когда сознание разливается по акустическому как бы окоему и из природы, рельсов, стрелок, семафоров, из этих огоньков далеких, дальних плачей, из снежных гор, подсвеченного неба как будто испаряется весь смысл, который был навязан им твоим сознанием… вот это очень вштыривало, да.
— А где вы жили?
— У Трех вокзалов. И окна наши выходили прямо на пути. Нас как магнитом, пацанов, влекло туда, вот в эту круглосуточную жуткую и сладкую воронку. Ну, там узбеки, там цыгане, солдаты, моряки, конечно, мундиры, кортики, погоны, ордена… вот это средоточие хаоса и в то же время умных человеческих усилий, случайности и в то же время предопределенности притягивало сильно мое воображение. С одной-то стороны такой вот караван-сарай, зияющая рана, черная дыра, которая сквозит проточной жизнью, миллионы комбинаций, мужчины, женщины, как вилы в вилы, сходятся, цепляются. Ну а с другой — вот ощущение расставания, потери, не боль, а грусть, скорее, по поводу, что был вот человек и нету, да, его слизало человеческим прибоем, стерло пронесшимся без остановки поездом. Вот у Поплавского есть строчка, кажется, такая: «И казалось, в воздухе, в печали поминутно поезд отходил». Вот, в этом все. То есть совершенная свобода человека от всего в такие вот мгновения на вокзале и беспощадность времени, какая-то существенность и вещность бесконечности, открывшиеся в тишине, в беззвучии, в далеких отголосках, в почти неуловимом звоне проводов.
— Такая непридуманная музыка?
— Ага, абсолютно. Которая над нами, которая не нами производится — скорее, производит нас. Ну вот, а тут школа какая-то, в которую тебя, как в крытку, запирают.
— Но все же ты не воспротивился.
— Ну, я был хитрый жук, я понимал, что получение каких-то маленьких материальных благ, велосипеда там, магнитофона, увеличение шоколадного, эклерного пайка зависит целиком от произвола матери. Да и потом, я попросту не мог ей не повиноваться, мне очень важно было ее благоволение, чтобы она повсюду брала меня с собой… я ж говорю, она была царица, и мне невероятно импонировало все время пребывать в ее вот этом ореоле, да… я как бы всем показывал: смотрите, я — ее, я — от нее, а вы все кто такие, да?.. Ну, в общем, мама, я не мог ее обидеть. Я стал ходить, по крайней мере делать вид. Ну, у меня две школы было — обыкновенная и эта самая. И вот в одной я говорил про нормы ГТО, которые надо сдавать, в другой — что Бах не может подождать. А сам не ходил ни в ту, ни в другую — катался до ночи на электричках или там с девочкой ходил в кино. Тут важно что еще — что мама в плане музыки была вот совершенно ортодоксальным человеком, то есть пребывала в рамках классической модели целиком. Как и весь ее круг, как и все педагоги. А это значит что? Ну то есть представление о музыке прежде всего как о каком-то языке, который нужен для передачи человеческой эмоции. То есть художник что-то пережил такое, разлуку, встречу, и начал выражать посредством музыки, чтоб этим с кем-то поделиться. И значит, эта вот неподотчетная душевная вибрация и есть первопричина возникновения звука, того, что полилось от сердца к сердцу. Мне лично с самого начала мерещилась в этом какая-то лажа. То есть такое чувственное оформление представлений, а не сама реальность. Мне говорили постоянно про бездны человеческой души, про некие богатства там, внутри, которые мы все обязаны открыть, мне говорили — загляни, и я садился и старался: смотрю, смотрю — и хоть ты тресни: ну нет никакого богатства, как раз наоборот, одна пустая тьма, чулан какой-то захламленный. Я попросту не понимал, как это — вот смотрит в ноты человек и начинает мне рассказывать про чей-то там туберкулез, про чей-то первый бал, про Машу, про Наташу, про то, как разрывалось чье-то сердце при мысли о разлуке с родиной… то есть чью-то биографию, да, которая мне на хрен не нужна, поскольку я живу сейчас и собственная жизнь, то, что вообще вокруг, вовне, над головой, — это гораздо интереснее, да.
3
Из дома нашего отца, четырехкомнатной квартиры на пятом этаже осанистого исполина (стремление ввысь, державная, свинцово подавляющая мощь) выходим мы втроем, отец и сателлиты; он выбрит чисто, до кости, погоны на прямых плечах задираются крыльями кверху, высокая папаха серого каракуля надвинута по брови; вон черная его казенная «Победа» рычит напротив нашего подъезда, как чайник с кипятком, окутанная космами мятущегося дыма; сказав Мартышке что-то про разветвленную двухцветную систему кровообращения, которую ей предстоит сегодня в школе отвечать, отец затягивает туже завязки ее круглой шапки из белого песца и напоследок щелкает слегка ей пальцем по наморщенному носу, словно его повыше задирая; коснувшись моего затылка под кроличьей ушанкой, идет по скрипучему снегу к машине — высокая плечистая фигура с такой прямой спиной, как будто под шинелью к ней привязана широкая доска.
Вчера шел дождь — будто заимствованный у весны, у марта, неурочный дождь, среди зимы, уже накрывшей землю саваном, а к ночи ударил мороз, задул страшный ветер, все ночь насиловал телесную органику, живую плоть принадлежащего нам парка, и каждая ветка запаяна накрепко в прозрачную толщу замерзшей воды; остеклененные, отягощенные ледовым панцирем раскидистые клены, каштаны, тополя, березы перекорежились, перекривились, изогнулись, скрутились ветками, стволами, как белье… надломленно, под беспощадным гнетом, поклонились ожесточившейся, лютующей зиме: весь верхний мир, составленный из сводов крон — всей силой естества, казалось, незыблемо и неостановимо устремленный в вышину, — преобразился, вывернулся страшно — шагни и провалишься ввысь, в обледененную, оснеженную прорву опрокинутой кроны. Я никогда еще не видел ничего… да и чего там я?.. сама будто природа ничего подобного не видела, от сотворения мира за собой подобного не знала — будто сама сковалась изумлением перед своей же собственной кривой безумной силой, безостановочно творящей новую, еще невиданную форму.
Стоим с Мартышкой на стыке двух природных царств, которые друг в друга перешли, перетекли, невероятно обменялись свойствами, спаялись так, что самого ничтожного разрыва между растением и минералом не осталось, между оркестром фауны и сокровенной пульсацией глубинных недр Земли — доступным слуху лишь одних гипербореев органным пением раскаленной мантии. Незыблемость и прочность каменной породы, скульптурность, монолитность соединились с изобильно-мощной, неукротимой, безудержной силищей произрастания.
Не знал мир времени, стоящий так, как будто никакого человека в нем не предусмотрено, не нужно; не нужно, чтобы кто-то смотрел, воспринимал и мыслил, настолько все законченно в нем было, совершенно, до точки исполнено, претворено. Все тихо, все бездвижно, не шелохнется ни одна обледенелая растяжка; навечно изумивший тебя своей чистой и строгой структурой вечный снег заполонил искристым игом все пространство, какое только можно охватить, и опрокинул все живое в благодарную, молитвенную, что ли, тишину, всю прорву, массу неорганики и всякую живую, дышащую тварь заставил бережно, смиренно, оневесомленно внимать алмазнотвердому и беспощадно-оглушительному целому. В колодце вышины, на небе такая стынь и тишь, что всякий шорох или даже мысль о звуке болезненно пронзает перепонки, с ушами начинают совершаться мучительные чудеса.
Неуследимо и неодолимо, словно каким-то внешним чуждым произволом невесть откуда взявшееся пение, как будто принесенное со снегом, снисходит, натекает на тебя: сначала вдруг забрезжит тихий звон, равновеликий, равносильный единственному крохотному снежному кристаллу, ничтожному, беззвучному и совершенно невесомому… вот тут застынь, и виждь, и внемли, а впрочем, и без выбора, без произвола, без согласия тебя обледенит, уже обледенило и сделало прозрачным, свободно пропускающим… и сразу после начинается медлительное, плавное, неумолимое круговращение одних и тех же бесконечно выносливых трех нот, которые сами себя будто смиренно-зачарованно разглядывают… но, это вроде как у Баха в хорале «Jesus bleibet meine Freude», где всё всё время вертится вокруг одной и той же фразы на трех аккордах, да, и сами собой проявляются в окрестном пространстве другие мелодии… но только должен вам сказать, что даже Бах — просто сопля на палочке в сравнении с этой тихой, ненастоятельной пульсацией, зачатой природой в человеке через уши.