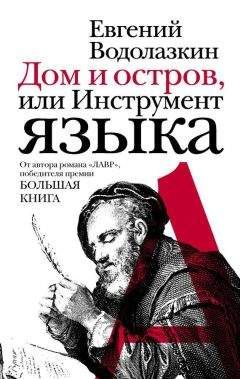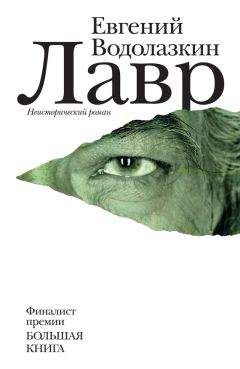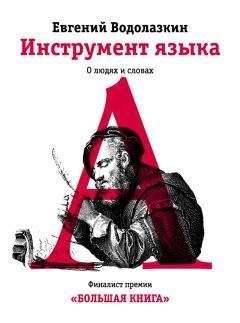Чудо как предчувствие. Современные писатели о невероятном, простом, удивительном (сборник) - Водолазкин Евгений Германович
Плинтуса везде отстают, штукатурка, больная, слабая, влажная, облетает тончайшими нежными пластами, даже лепестками — почти яблоневыми. Тут не растут. Жалко. Надо было, конечно, сделать ремонт, но местные ломили непотребно дорого, а научиться самим все было недосуг. Они безрукие. Рукожопы. Фрустрированные городские невротики, как говорила Катичка. И смеялась.
Ничего, научимся, как выйдем на пенсию.
Нет, не выйдем.
На кухне кот задержался, посмотрел на холодильник. Выразительно уркнул. Ненормально большой, конечно. Чернющий, прямо непроницаемый. Яйца с кулак. Мышцы так и ходят. Глаза рыжие, круглые. Не глаза, а блюдца. Как в сказке Андерсена. Желтый томик, третий справа на нижней полке в их с Катичкой комнате. В Москве. Картинки кружевные, словно кто-то вел пером чернильную линию, не отрывая руки. Единственная уцелевшая книжка из детской библиотеки. Родители начали собирать еще до того, как он родился. Мечтали, что он будет тихим воспитанным книгочеем. Но он, честно говоря, не особо, цифры были интереснее. Мама сперва боролась, потом злилась, потом долго надеялась на внуков, хоть детям твоим пригодится, раз сам дурак, а потом обиделась, она очень умела обижаться, и всё раздарила, раздала — книжки, игрушки, даже его первого зайца, голубого, старенького, родного. Сама же потом плакала, жалела. А вот Андерсен как-то приблудился, переехав с ним примерно десять? Нет, семь, семь с половиной раз. Буквенный кочевник.
Молоко, похоже, не прокисло. Будешь молоко?
Вошла Катичка, кот уркнул повторно — уже укоризненно. Он совсем, что ли, малахольный у тебя?
Вроде того.
Катичка, прости-прости-прости, сама не знаю, что на меня нашло, звонко чмокнула его в щеку, мог бы и побриться, это, кажется, уже подумала, убрала молоко, закрыла холодильник, снова открыла, взяла доску, желтую, пластмассовую, для сыра: для сырого мяса, для рыбы, для фруктов — доски другого цвета, отделила от параллелепипеда ветчины основательную грань, бросила коту — на, жри! Сполоснула доску, вытерла, убрала на место, снова хлопнула дверцей холодильника, погладила кота по остро выставленным лопаткам. Кот тряс головой, чавкал, роняя из розовой пасти розовые куски. Жрал.
Вообще-то это была моя ветчина.
Не жадничай. Мы же всегда хотели кота.
Может, это чей-то кот.
Больше нет ничего чьего-то.
Возразить было нечего.
Катичка еще раз погладила кота. Села на стул. И некрасиво, в голос, заплакала.
Вечером они долго сидели на террасе в плетеных пластмассовых креслах. Ноябрь, а так тепло. Даже куртки не нужны. Благословенная земля. Тебе подлить? Давай. Вино тоже было благословенное, почти синее, горькое, густое. Он разлил не на ощупь, а на звук — струйка, встретившись с тонким стеклом, пропела жалобно, нежно и истаяла в тишине. Птиц больше не было. Машин тоже. Лисица, которая каждую ночь то тявкала где-то в полях, то вдруг, задыхаясь, отрывисто истерично хохотала, замолчала еще в сентябре. Хотя, может, это и не лисица была вовсе.
Это разливное, из таверны? Угу. Надо будет купить литров десять, если они не закрылись. Он кивнул. Закрылись, конечно, но думать об этом не хотелось. Катичка потянулась погладить его по щеке, но угодила в глаз, ахнула, извинилась. Ничего, ничего. Мне не больно. Он нашел ее пальцы, поцеловал. Пахло мятным мылом и немного чесноком. На ужин были его любимые куриные отбивнушки.
Как хорошо, что мы вместе.
Катичка поцеловала его руку в ответ. Кресла поскрипывали, как будто озвучивали каждое невидимое движение.
Хочешь, свечку принесу?
Нет, не надо. Уже скоро.
И действительно, минут через пять луна вспухла над горизонтом — огромная, раздувшаяся, неприятная, темно-оранжевая. Ненормальная. Они знали, что это ненадолго, надо просто не смотреть, подождать. Все, уже нормальная, маленькая, белая, висит на положенном месте. И сразу, словно кто-то подбросил снизу целую пригоршню, появились звезды. Крупные, как прыщи, сказала Катичка — и они засмеялись.
Он встал, подошел к перилам. Темнота побледнела, расползлась, спряталась в ближайшей оливковой роще, темной, будто жестяной, и стало видно далеко-далеко. Долина лежала не шевелясь. Дремала. Ни огонька. Все оттенки серого. И черного. И синего. Очень красиво. Когда они в первый раз вышли на эту террасу, Катичка всплеснула руками и ахнула.
Как мы его назовем?
Катичка чуточку растягивала гласные, как всегда после второго бокала.
Кота?
Кота.
А зачем его называть? Пусть будет просто кот.
Он не просто кот. Ты что, не понимаешь? Это утешение. Господь послал его нам в утешение.
Кота?
И не только.
Катичка была права, конечно. Господь посылал им в утешение много всего. Солнце, виноградники, холмы, сыр, вино, оливки. Теперь вот кота. Сожрав ветчину, кот ушел из дома, оставил их растерянных, осиротелых, но к вечеру вернулся, притащил птицу, очевидно, задушенную самолично, спасибо, дружище, но не надо, ладно? Не надо никого убивать! Кот бодался, крутился вокруг ног, требуя ласки и еды, и, получив искомое, облюбовал на втором этаже кресло и задрых. Остался. Они с Катичкой тихонько выкинули птицу, маленькую, взъерошенную, длинноносую, подальше в лес. Чтобы кот не обиделся. Смешно, но в доме стало спокойней. И не только в доме. Весь мир стал безопасней.
Почему ты молчишь? Я чистую правду сказала. Иначе откуда этот кот вообще взялся? Это не кот. А знак. Знак Божий.
Кать, ты пьяная просто. Давай не будем?
В бога он не верил. Никогда. Даже не пробовал — как курить. Не из вредности. Просто нелегко было представить себе сущность, способную учитывать и удовлетворять все потребности каждого индивида, учитывая, что этих самых индивидов на планете примерно восемь миллиардов. С хвостиком. На всех — котов не напасешься. Или не восемь миллиардов? Он ткнулся прогуглить, но сети не было. Нажал перезагрузить. Пока на экране крутились песочные часы, сообразил, что теперь не восемь миллиардов уже, наверно. С учетом происходящего. Может, и миллионы давно. А то и меньше. Под ложечкой закрутилась тревога — так же механически, мерно, как песочные часы.
Он сглотнул. Машинально, словно беременная, положил ладонь на солнечное сплетение, успокаивая что? Катичка бы сказала — душу. Она всегда любила эту хрень — вибрации, эманации, чудеса. Разве наша с тобой встреча — не чудо? Охренеть, какое чудо. Наехала на меня самокатом своим, чуть ногу не сломала. А если бы я не взяла в тот день самокат? Это теория вероятности, а не чудо!
Он и сам не понимал, что́ Катичка в нем нашла. Она была изящная, шустрая, коротко, как мальчишка, стриженная — то, что называется, штучка. А он тюфяк, сырой, рыжеватый, лет с двадцати пяти плешивый. Они никак не должны были быть вместе. Но поди ж ты.
Очень не хотелось умирать.
Телефон наконец перезагрузился. Никаких сетей. Вообще что-то было не так. В целом. Он еще раз осмотрел долину. Горы. Призрачный драгоценный вид. В том месте, куда уводила дорога, не висела звезда. Ну, их звезда. Всегда висела, а сегодня нет. Вместо нее серело пятно. Небольшое.
Облако?
Он снова перезагрузил телефон.
Нет, точно — облако.
Блед, — сказала Катичка из-за спины.
Что?
Мы назовем его — кот Блед.
И Катичка не то закашлялась, не то засмеялась.
Утром он вышел на террасу, и солнце немедленно придавило его, как бетонная плита. Господи. Который щас час вообще? Он потряс телефон. В голове катались красные и черные шары. Нельзя так нажираться в сорок лет, ей-богу. Он потряс телефон еще раз — интернета так и не было. Связи тоже.
Что ж. Этого следовало ожидать. И мы ожидали.
Он из-под руки, щурясь и моргая, посмотрел туда, где вчера было пятно. Серое, небольшое. Надоедливое. Как жирный отпечаток на очках.
Туман. Никаких сомнений. Это был туман.
Чертово солнце, слезы градом.
Он потер глаза. Еще. Ну, блин.
Снизу коротко, нежно, переливчато мяукнули.