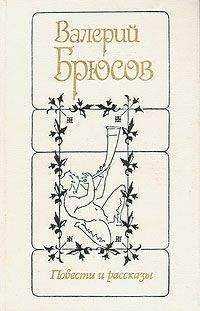Хельмут Крауссер - Сытый мир
Мальчик чувствовал себя там очень хорошо, особенно когда оставался совсем один. Тогда он превращался в жреца некоего в высшей степени таинственного ордена, ревнивого к милости посвящения в его правила.
Он впитал в себя магию этого места, чтобы приобрести нечувствительность ко всему остальному миру. Тишина и вино стали нектаром, подкрепляющим его силы. И если говорят, что пафос внутри себя пуст, так это, может быть, только оттого, что мальчик за все те годы жадно выгрыз его до пустотелости.
Однажды ночью, за несколько недель до его восемнадцатого дня рождения, он снова шёл по своему лесу. Стояла безлунная ночь, поэтому мальчик шагал осторожнее, чем обычно, хотя ему всегда казалось, что в чаще и в темноте у него открывается некий чувствительный орган, вроде радара летучей мыши.
Медленно и тихо, чтобы не нарушить тишину, он двигался по мало освоенной территории западнее Амфитеатра. Глаза его ощупывали темноту, ничего в ней не обнаруживая. Вино уже подходило к концу. Охотничьи вышки были построены все по одному образцу — устойчивые и удобные, и одна из них была такой высокой что с неё можно было наблюдать даже световой поток дальнего автобана.
Из одного ручья он поплескал себе на лоб прохладной воды. Полный уверенности в своих силах, в ожидании нового возрастного этапа он топал сквозь черноту леса и вслушивался в тишину.
Потом откуда-то взялась мысль, что он, может быть, не доживёт до своего восемнадцатилетия. Ему показалось совершенно невероятным представление, что время может так просто пройти милю, прошествовать своим путём дальше, отделённое от какой-то даты Может быть, родители укокошат его ещё до того, как ему стукнет восемнадцать, скорее всего по случайности, в состоянии аффекта, а то и просто невзначай. И, может быть, ему стоило бы перенести свой отъезд из родительского дома на более ранний срок и отпраздновать триумф дня рождения где-нибудь в другом месте.
Потом он подумал о расхожем клише насчёт руки судьбы и решил предаться её милости.
Он также решил в случае отъезда обойтись без прощального письма. Ему нечего было сказать. Он просто хотел всё оставить позади. Унижения. Позор. Надсмотр и неусыпный контроль. Подглядывание, подслушивание. Кражи. Побои. А также ненависть, которую все эти вещи порождают.
Через несколько недель он родится на свет, а всё, что было до того момента, не оставит в нём никаких воспоминаний никакого отпечатка. Так он думал. Он прилагал к этому много стараний.
Небрежно вытянув вперёд раскрытую ладонь, подобно палке слепого, он шёл сквозь темноту, и хвойные иглы были мягки по отношению к нему. Он сделал привал, упёрся спиной в ствол дерева и подумал, что это действительно граничит с чудом — то, что его до сих пор не тронул ни один клещ. Которых здесь были мириады.
Потом он услышал хруст веток.
То была не птица и не какое-нибудь животное, он бы это сразу различил. Эта характерная регулярность хруста могла означать только шаги. Шаги, время от времени приостанавливающиеся.
Как будто его что-то учуяло и теперь замерло, чтобы как следует разнюхать, опасность это или, напротив, облегчение.
Ходьбу на подошвах ни с чем не спутаешь. Вначале каблук, потом носок… и перекатывание с каблука на носок, заставляющее сухие листья отпрыгивать в стороны…
Это был человек. Где-то там, в неопределённом, приблизительном направлении.
Мальчик поднялся и рассерженно двинулся дальше. Он хотел в эту ночь быть один и форсировал темп. Тем самым, он вызвал дополнительные шорохи трески и шумы, за которые ему было стыдно, потому что великая добрая тишина тем самым несла потери Он то и дело останавливался и прислушивался.
Он слышал то один шаг, после которого было эхо, а потом не было ничего, — то ничего не слышал.
Что-то преследовало его, останавливаясь тогда, когда останавливался он.
Это Нечто сохраняло дистанцию.
Мальчик пошёл ещё быстрее. Оно оставалось на прежнем расстоянии, идя по его следам.
Между делом он пытался сориентироваться и сообразить, где он сейчас находится. Он искал какую-нибудь тропинку. Но его глаза не пробивали черноту ночи. Тот, кто шёл за ним, шёл именно за ним и не хотел, чтобы мальчик его заметил.
Наморщив лоб, мальчик размышлял, не крикнуть ли ему во весь голос: «Кто идёт?» Но у него перехватило горло. А может, это всё было только воображение, иллюзия? Ему не хотелось вникать в детали существования этого преследователя. И он терпеть не мог громко кричать в лесу. В конце концов он решил сделать вид, будто не подозревает о преследовании, и шёл дальше, производя однако, ещё больше шума и треска чем до этого, а идя по сухой земле, ускорял и уменьшал шаги.
Потом он сделал большой рывок.
Зависла петля тишины.
Действительно.
После этого не оставалось уже никакой возможности отнести всё это на счёт воображения.
Прошуршали два шага. Потом замерли.
Однозначно.
Пот выступил у него на лбу.
И он побежал, выставив вперёд обе руки для зашиты Ветви стегали его по рукам, паутина приклеивалась к волосам, а правую щиколотку он разбил, поранившись о корень.
А это Нечто гналось за ним — синхронно, в тени его шума.
Добравшись наконец до тропинки, мальчик отдышался и попытался придать шагам больше мужественности.
В конце концов, ведь это был его лес.
Зачем, он бежал?
Обернись же! — приказал он себе. Крикни этому Нечто в лицо, как он смеет…
Но в то же время он почувствовал, что если он это сделает то непременно что-нибудь случится. И совсем не обязательно приятное.
Если же он просто пойдёт себе дальше, конфронтации, возможно, удастся избежать. Почему — знала только иррациональная душа убегающего.
Он шёл по тропинке. На гравии топающие шаги преследователя были слышны отчётливее, он пытался попасть в такт с шагами мальчика.
Тогда мальчик стал через каждые несколько метров перетанцовывать, принуждая к этому и преследователя. Однако оглянуться он не отважился.
То была уж точно не красивая девушка и не жареный ягнёнок. Он думал скорее о топоре, зажатом в нервозных руках. Что-то вроде того.
И он снова рванулся вперёд.
Вскоре стало слышно не только шаги, но и тяжёлое дыхание. Дыхание, которое приближалось.
После этого преследование утратило уже всякую элегантность. Так продолжалось с километр.
Мальчик добежал до края леса, увидел перед собой бетонную дорогу, увидел первый фонарь, окружённый роем насекомых, бросился к нему и прислонился, — это было рядом с пустой парковкой открытого бассейна; он отдышался, вытер пот со лба и ощутил нелогичное, ничем не обоснованное чувство, что он спасён.
Почему — знает, как уже было сказано, только душа убегающего.
Но эхо и на самом деле смолкло.
То, что гналось за ним, так и осталось в укрытии леса и больше не преследовало его в освещении цивилизации.
Мальчик дрожал. В нём спорили стыд от того, что он трусливо бежал, с убеждением, что он поступил благоразумно.
Но было ещё и любопытство. Громадное любопытство — узнать, что же скрывалось под этим Нечто.
Он раскрыл свой карманный складной нож и уставился в черноту леса. Может быть, размышлял он, только и нужно было сделать, что повернуть штыки, чтобы из добычи превратиться в охотника?
Но он оставался на месте и дрожал, не решаясь переступить через демаркационную линию освещения, а его сердце так разбухло, что лёгким было тесно в грудной клетке.
Иди же туда! — приказал он себе. — Иди же туда и посмотри!
Но он оставался у фонарного столба как приклеенный пока дрожь не утихла И он уже знал, что это сам лес исторг его из себя.
КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ
Я забыл рассказать об одной детали, которую я заметил во время моего путешествия с Рихардом и Лидией. В Риме во время посещения Пантеона я разглядывал мощные коринфские колонны этого здания, посвящённого всем богам/ И на одной из этих колонн, на высоте в пятнадцать метров, торчал футбольный мяч типа «танго», застрявший между завитками и акантусом. Никто не знал, что нужно было этому мячу на такой высоте.
ГЛАВА 19. ЧТО НИ БАК, ТО СМАК
в которой Хаген приезжает в Берлин и пытается найти Юдит
Наступил август. Бодро поскакал через чистилище. Я в аду. Нет, сказать это — значит ничего не сказать. Волны берлинского эфира лопаются от самовосхваляющих песен. Есть ли ещё в мире город, который сочинял бы столько песен о себе, любимом? Фронтовой театр. Оживление труппы на островке Запада. Ну, и как долго это ещё продлится? Стагнация вражественного мира подходит к концу. В распродаже Востока в это лето больше уже никто не мог сомневаться. Хотелось бы думать, что в этом есть скрытые возможности и перспектива! Как только пищеварительный тракт мира приходит в движение и начинается перистальтика кишечника, оптимисты тут же готовы поверить, что это новый шанс избежать повторения периодического кошмара. Но кишечник как был, так и остаётся изнутри коричневым, а то, что из него выходит наружу, скорее вонь, чем ветер, и уж тем более не свежий…