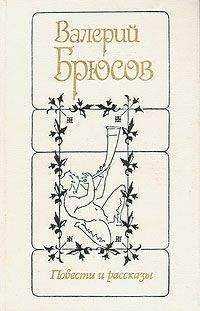Хельмут Крауссер - Сытый мир
При виде миллионов фиолетовых пожирателей lasciate ogni speranza voi ch'entrate!
Берлин.
Здесь я долгое время жил с засевшей в башке эпилепсией свободы. Швырял камни, как дюжина молодых Давидов, вверх, на балкон кафе «Кранцлер», этого места встречи обывателей с Ку-дамм. Посреди неона и обдираловки были возведены баррикады, и машины полыхали огнём. Как же о таком не вспомнить в приступе ностальгии!
Позднее камни метко попадали в витрины павильонов, торгующих напитками. Спорт порождал неутолимую жажду.
Сегодня было бы куда уместнее отправиться в кафе «Кранцлер», раздолбать там мраморный столик и швыряться оттуда обломками в прохожих…
Кройцберг за это время приобрёл опрятный вид, гетто стало аттракционом для туристов, а самые умные из любителей независимости подались в деревню. Город полон дегенеративных экстремистов, а идеи, смысл которых ещё можно как-то догнать, — это всего лишь детские формулировки антикварных утопий. Вокруг шныряют одни безумцы, обозлённые, тупые, лишённые шарма и рафинированности. Всё, что они придумывают, имеет один источник: злость, отчаяние и сладострастие разрушения, — что значит столько же, сколько не значит. Город не очень-то отличается от остальной сыто-немецкой реальности. Разве что он обнажён и омерзителен.
Много чего носится в здешнем поганом воздухе. Я считываю знаки со стен. В лабиринте.
Я должен найти здесь Юдит. Достаточно трудная задача.
Берлин — это такая идиллия говна и одурачивания, что поэту здесь нечего искать, кроме Юдит.
Здесь всё можно отразить несколькими фотографиями. Остальное узнаешь из рекламы. А сплетни меня не интересуют.
Мне на всё это накакать. Искусство должно быть на месте преступления ещё до того, как туда сбегутся були и репортёры.
Из двух тысяч марок моей добычи осталась ещё добрал половина. Несмотря на это, я живу в надменной бедности.
Приюты для бездомных здесь переполнены иногда даже летом — поляками, пакистанцами, иракцами и так далее, представительными делегациями из всех углов глобуса.
Я подыскал себе дешёвый пансион, поскольку не хотел подолгу таскать мои бабки в трусах. Это причиняет неудобства при эротических сновидениях. Если бы я оставался ночами на улице, у моих бабок было бы мало шансов продолжительно наслаждаться моим обществом. С богатством всегда так.
Берлин никогда не был особенно дружелюбен по отношению ко мне.
Здесь я вынужденно подолгу сиживал в дерьме. Здесь я проигрывал всевозможным крупье нечеловеческие суммы. Здесь я чуть не подхватил лёгочное заболевание от слезоточивого газа. Город всегда любил показать мне, кто здесь главный.
Что касается Юдит, то примет, по которым я мог бы её найти, очень мало. Она ходит в гимназию. Но от этого нет никакого проку, потому что гимназии сейчас закрылись на каникулы.
Я без всякого плана прочёсывал разные районы города.
На одном грузовике, вывозящем мусор, красовалась надпись: «Что ни бак, то смак».
Ну, браво! Можно только поаплодировать!
Юдит упоминала как-то, что играет на виоле. Что ж, обзваниваю музыкальные школы и расспрашиваю, давая какие-то её приметы. Это требует только времени. Но многие вообще не расположены давать какие-либо справки. Кроме того, существуют ещё тысячи частных преподавателей музыки.
Было бы подло и бесстыдно надеяться на чудо, но бегаешь и ждёшь, потому что деваться некуда, приходится искать Юдит наугад.
Она говорила, что любит ходить в кино. Поэтому вечерами я толкусь то тут, то там, где показывают фильмы, которые ей могли бы понравиться.
Бывают жуткие минуты, когда я думаю о том, что её, может быть, вообще нет в Берлине, что она, например, как раз в это время ищет меня в Мюнхене.
Это было бы слишком трагично. Тогда мне пришлось бы жестоко сожалеть о том, что я приехал в Берлин.
На всякий случай я звоню одному из наших мюнхенских тружеников улицы и спрашиваю, какие новости.
Нет, о Юдит он ничего не слышал. Зато он рассказывает между прочим, что Том попался и арестован.
Я оставляю свой внимательный взгляд в каждом итальянском ресторане: она любит пиццу. Я растратил уже все взгляды. Моя слепота убивает меня.
Трижды в день — ламакун, по две пятьдесят за штуку. Это такая турецкая пицца с салатом. Вкусно, но не сытно. Я похудел.
Как я ненавижу Берлин! Но думать про это нужно тихонько, потому что город подслушивает мысли и зловеще посмеивается. Пристанище проклятых. Смоговое предупреждение второй ступени. Турецкий кебаб, реквием ми-диез.
На алкоголь я расходую совсем немного — и то лишь на самый дешёвый. Хаген, образцовый испытуемый. Которого надо досрочно отпустить за хорошее поведение.
Бродяги здесь заметно брутальнее, чем в нашем городе на Изаре. Они не ведают, что такое наплевательство, складчина здесь не в чести, за каждое пиво нацо бороться, даром тебе ничего не дадут. Нравы дикие, руки скоры на расправу, а порог торможения понижен до самого пола.
В Мюнхене наш брат смотрится чужеродным явлением на фоне изящных фасадов. А в Берлине низкое во многих местах стало образом жизни, дурным подобием фильмов Джима Джармуша.
Каких тут только нет развлечений!
Многие рок-концерты даются почти задаром, и повсюду шныряют типы, продавая из принесённых с собой коробок баночное пиво, причём по цене, ненамного выше той, что в магазине.
В Мюнхене такое было бы немыслимо, никто бы не пошёл на это: ни стиля, ни достоинства, ни выгоды.
Иногда я захожу в игровые пивные и играю с крупье блиц в шахматы, чтобы слегка приумножить мои денежные запасы: неизвестно, сколько времени ещё мне понадобится продержаться здесь.
Когда мне было девятнадцать, я почти каждый вечер проводил в таких пивных. Шахматный ресторанчик располагался в десяти минутах ходьбы от Курфюрстен-штрасе, и я мог играть по три часа подряд, ни разу не проигрывая. Дела шли.
Шлюхи давали или делали тебе всё что хочешь прямо на скамейке детской площадки. Это была упорядоченная жизнь.
Теперь я так сильно дисквалифицировался, что за сорок марок должен париться очень долго, да и те появляются редко…
А с моим воспалением лёгких всё обошлось хорошо. Два дня и две ночи я провалялся тогда в постели в чужом садовом домике — спал и потел, спал и потел, а потом появились люди, подняли крик и разбудили меня, но к этому времени я уже накопил достаточно сил, чтобы убежать. Спрятанные деньги дожидались меня под буком. и даже с автостопом мне повезло: меня сразу же подобрал один шофёр.
Ирода, кстати, арестовали. Им оказался безработный турок, при котором были обнаружены опасная бритва и молоток. Правда, он ни в чём не сознался, но случай был ясный, а улики убедительные. Странно. Что-то я никогда не замечал у Ирода турецкого акцента.
Если бы у меня была хотя бы фотография Юдит! Тогда её можно было бы кому-то показать…
Мне в голову пришла мысль пойти к одному из множества художников-портретистов, промышляющих у церкви памяти кайзера Вильгельма, и заказать ему портрет по описанию. К сожалению, почти все эти художники специализировались на карикатурах.
Несмотря на многократное описание, все те креатуры, которые возникали на планшетах, ни в малейшей степени не напоминали Юдит. Чем больше я её описывал, тем более размытыми становились её черты в моих собственных воспоминаниях. Я ушёл оттуда, не заплатив, и горько сожалел о том, что сам совершенно лишён способностей к рисованию. После этого я поместил несколько объявлений в дневные газеты и городские журналы. Безрезультатно.
Но решимость найти ее меня не покинула.
Вероятность случайно встретить Юдит на улице — по приблизительной прикидке — равнялась 1:1 во временном промежутке в семь лет.
На улице Семнадцатого июня промышляли нелегальной проституцией красивые польки, они трахались задёшево.
Я сдерживался, как какой-нибудь юноша, который при вспышке первой любви принимает экзальтированное решение впредь больше не онанировать. Но тоска по человеческому телесному теплу и давление гормонов — они оказались сильнее меня. Я был поколеблен.
Битва спермы была проиграна. После этого я впервые в жизни действительно почувствовал печаль, как всякий зверь после совокупления. Полька сделала это за тридцать марок, по-французски, по-настоящему первоклассно, уж постаралась, и ещё что-то рассказывала о голодающих родственниках за ржавым железным занавесом, которых она поддерживает материально. Я дал ей сверху ещё двадцать марок. На большее всё это никак не тянуло.
Облака на небе сложились в рожу чёрта, который нагло усмехался мне в лицо. Я крикнул туда, наверх:
— Надолго тебя не хватит!
И смотрел на эту рожу, пока ветер не растащил её в разные стороны. Я удовлетворённо кивнул.
Кто замахнётся на борьбу с чёртом, должен сам быть не меньше чем Богом, в противном случае чёрт умрёт со смеху. Поэтому люди легко склоняются к тому, чтобы ничего не называть чёртом, а сами предпочитают быть не больше чем человеком. Со временем это основательно отравляет жизнь.