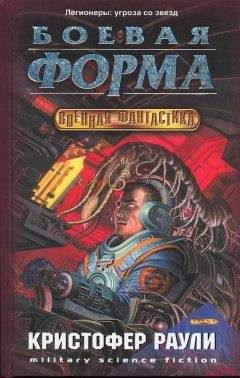Чезаре Павезе - Избранное
— Я не в восторге от этого сосняка, — сказал как-то вечером Пьеретто, приближаясь вместе с Поли ко мне между стволами деревьев. — Разве это глушь? Жабы и змеи здесь не водятся.
— Какая муха тебя укусила? — сказал я.
— Держу пари, что тебе и здесь хорошо, — сказал он и ухмыльнулся. — А по мне, на болоте лучше. Здесь даже нельзя раздеться догола. Засилье цивилизации.
— Я не нахожу, — сказал Поли. — Мы живем, как крестьяне.
Из-за деревьев вышла Габриэлла и подозрительно посмотрела на нас.
— Секретничаете? — спросила она.
— Какие тут секреты, — сказал Пьеретто. — Вот Поли убежден, что живет по-крестьянски. А по-моему, мы едим и пьем, как свиньи. Вернее, как баре.
— Как баре? — надувшись, переспросила Габриэлла.
Пьеретто рассмеялся ей в лицо.
— Странные понятия у некоторых людей, — сказал он. — Что же, по-вашему, вы зарабатываете себе на жизнь?
Но Поли сказал:
— Если ты хочешь раздеться догола, пожалуйста.
— Это невозможно, — сказал Пьеретто. — Здесь чувствуешь себя слишком цивилизованным.
— Вы хотите ходить голым? — сказала Габриэлла. — Почему бы нет? Но крестьяне таких вещей не делают.
Тут Пьеретто посмотрел на меня.
— Ты слышал? У синьоры те же взгляды, что у тебя.
— Не называй меня синьорой.
— Как бы то ни было, — упрямо продолжал Пьеретто, — ходить голым, как животные, не может никто. Я спрашиваю себя, почему…
Габриэлла едва заметно улыбнулась.
— Поймите меня правильно, — сказал Пьеретто. — Жить голым, а не раздеться забавы ради.
Между деревьями показался Орест с обиженной миной на лице.
— На мой взгляд, — сказал Поли, — все мы голые, хоть и не знаем об этом. Жизнь — слабость и грех. Нагота — это слабость, что-то вроде открытой раны… Женщины ощущают это, когда у них месячные.
— Твой бог должен быть голым, — пробормотал Пьеретто. — Если он похож на тебя, он должен быть голым…
За столом все чувствовали себя неловко. Даже Пьеретто в этот вечер не шутил. Самый невинный вид был у Ореста, который грустно-грустно смотрел на Габриэллу. От этого разговора под соснами остался какой-то осадок, какое-то чувство стыда. Я вдруг заметил, что Поли и Габриэлла обмениваются взглядами — напряженными, почти страстными, непритворными. Меня снова охватило давнее нетерпение, стремление остаться одному. На этот раз заговорил Пьеретто.
— Как ни хорошо в Греппо, а всему приходит конец. Пора и честь знать, — сказал он резко. — Что ты об этом думаешь, Орест?
Орест, которого этот вопрос застал врасплох, поднял голову, не успев изменить умильное выражение лица. Но никто не улыбнулся. Ни Поли, ни Габриэлла ничего не возразили. Очевидно, что-то происходило. Я снова подумал о Розальбе.
— Охотники, сезон окончен, — сказал тогда Пьеретто.
Орест робко улыбнулся.
— Предстоит еще сезон перелетных птиц, — сказала вдруг Габриэлла с неожиданной живостью. — Бекасов, куропаток. — Она надула губы. — Но вы ведь должны сначала побывать на сборе винограда.
Мы снова заговорили о том, что стояло у Ореста костью в горле. С его отцом было условлено, что мы приедем на сбор винограда в Сан-Грато. Всякий раз, когда упоминалось об этом, Орест мрачнел. Так было и теперь.
— Жаль, что на виноградниках Греппо виноград собирают только дрозды, — сказал Поли, исподтишка поглядывая на него. — Ну ничего, Орест. Ты съездишь туда, а мы тебя подождем.
Но странное дело, именно оттого, что всем было не по себе, во взглядах не сквозило обычного лукавства. В воцарившейся тишине раздался автомобильный гудок. Внезапно в стекла брызнул свет, и Габриэлла вскочила, восклицая: «Это они! Они опять приехали». Послышались громкие голоса.
Клаксон ревел, как Орест в ту ночь, на холме. Поли нехотя встал. Пинотта прошмыгнула через комнату в кухню. В какой-то момент мы с Орестом остались одни, и, помню, я, уже стоя, зачем-то налил себе вина, а снаружи тем временем усиливался шум и смех. Я положил руку на плечо Оресту и сказал ему: «Крепись».
Так началась эта ночь, которой суждено было стать последней. Я вышел наружу. Небо было звездное, в мягком воздухе стоял запах сосен и прели. Резкий свет фар двух машин придавал сказочную эффектность гравию, черным стволам деревьев, провалу равнины. Со всех сторон показывались миланцы. Габриэлла наскоро представляла мне то одного, то другого; я, обалдев от всей этой кутерьмы, только пожимал руки, Пьеретто тоже; когда мы вошли в помещение, я никого не помнил.
Наш ужин полетел вверх дном. Пинотта, которая обычно прислуживала нам просто в фартучке, появилась в наколке. Распахнули бар. Девушки и мужчины бросились в кресла, смеясь и прося не беспокоиться — кто-то уже поел, кто-то выпил, а из машин между тем принесли корзины — пропасть всякой снеди, бутылок, сластей; захлопали пробки. Я насчитал трех женщин и пятерых мужчин.
Женщины были по-дорожному повязаны косынками, но щеголяли пестрыми платьями и голыми ногами. Ни одна не могла сравниться с Габриэллой. Они галдели, просили огня, беззастенчиво разглядывали нас. Из имен, которыми они называли друг друга, я разобрал только одно — Мара. Среди мужчин был один — молодой, тощий, с подергивающимся, как у бесноватого, лицом, в странной курточке, доходившей ему только до пояса. Его звали Чилли. Войдя, он так вытаращил глаза на Пинотту, что все покатились со смеху. Другой взял Габриэллу под руку, и они опустились на диван. Еще один, вылощенный, стоял в сторонке и кричал, что счастлив приветствовать хозяев и друзей дома.
Пока они бурно выражали свою радость по поводу встречи, было невозможно говорить ни о чем другом. Упоминания о Милане, словесная перепалка, общее возбуждение преобразили и Поли, который отпускал комплименты женщинам, подмигивал то одному, то другому, словоохотливо отвечал тем, кто к нему обращался. Раскрасневшаяся Габриэлла отбивалась от осаждавших ее остряков. Все хором осуждали уединенную жизнь, которую вели Поли и Габриэлла, аморальный эгоизм любви на лоне природы, добровольно избранную скуку. Мужчина в светлом костюме, с энергичным лицом, неизменно сохранявшим саркастическое выражение, — некий Додо, которому было уже под сорок, как я потом узнал, — выждал минуту тишины и холодно объявил, что можно иметь романы с чужими женами, но уж никак не со своей собственной.
Пьеретто принюхивался к атмосфере, как охотничья собака. Я заметил, что Орест исчез. Исчезла и Габриэлла. Через минуту они вернулись, неся маленький столик. Опустив глаза, вошла Пинотта с наколотым льдом. Габриэлла, смеясь, захлопала в ладоши — я заметил, что она переоделась и была теперь в голубом, — и пригласила желающих подняться наверх и умыться. Нас осталось на веранде пять или шесть человек, в том числе худая женщина, сидевшая возле Поли.
XXVIIIХудая сказала Поли:
— Сейчас же объясните мне, почему вы живете здесь.
— Разве вы не знаете? — сказал Поли. — Папа держит меня в заточении.
Худая сделала гримасу. Она была уже не очень молода. Протянув бокал, она сказала:
— Налейте мне.
Голос у нее был сухой и резкий, а пальцы унизаны кольцами.
— Папа или Габриэлла? — спросила она с глупым смехом.
— Это все равно, — сказал юнец с взъерошенными волосами, примостившийся на подлокотнике кресла. — Семейные обстоятельства.
Пьеретто, до сих пор не раскрывавший рта, проронил:
— За один вечер у него не выведаешь этот секрет.
Никто не обратил на него внимания. Юнец сказал:
— Но мы хотим развеселить тебя. Мы подумали: быть может, один он мало пьет. Вот мы и приехали наставить тебя на истинный путь. Додо готов был держать пари, что ты даже не знаешь, что танцуют в этом году в Милане.
— Вот что, — серьезно сказал Поли и, подняв палец, стал отбивать такт.
— Нет! — со смехом закричали все.
Худая закашлялась, и бокал зазвенел у нее в руке. Вошел Додо, сверкая золотыми зубами в саркастической улыбке.
— Ты отстал на год, — сказал юнец, когда смех стих.
— Нет, не больше чем на три месяца, — бесстрастным тоном подхватил Додо. — Поли остановился в своем развитии три месяца назад.
Этот Додо был загорелый мужчина с холодными глазами, говоривший небрежно и самоуверенно. Я вспомнил, как поморщился Поли, когда мы услышали автомобильный гудок и голоса приехавших, вспомнил взгляды, которыми он перед этим обменивался с Габриэллой. Теперь все это было забыто, а вылощенные приятели наших хозяев спускались по лестнице и со смехом вваливались в гостиную. Последней, когда уже захрипел проигрыватель, вошла Габриэлла.
Я стоял, прислонившись к подоконнику, и мне хотелось исчезнуть, удрать в лес.
Не стушевавшийся Пьеретто уже принялся болтать, замешавшись в группу миланцев. Никто еще не танцевал. Тощий Чилли развлекался в одиночку, поглощая пирожки, и видно было, как у него ходит кадык. Орест опять исчез. Заметив это, я посмотрел на Габриэллу. Она что-то говорила Поли, а всклокоченный юнец тянул ее за запястье. Она смеялась, и продолжала говорить, и уступала юнцу. В этом платье она была очень хороша. Я спросил себя, сколько из присутствующих мужчин прикасались к ней, сколько из них путались с ней до Ореста.