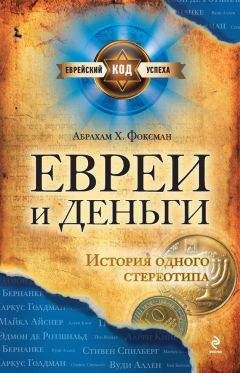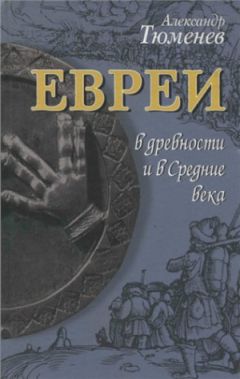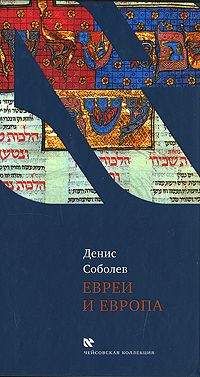Даниэль Пайснер - В темноте
Соха был один. Он нашел поблизости канализационный люк, под которым, по его прикидкам, не было воды, и начал сбрасывать туда мешки с картошкой. Неожиданно появились немцы – то ли из СС, то ли из гестапо. Один из них остановил Соху и спросил:
– Зачем вы сбрасываете картофель в канализацию?
– Картофель гнилой, – ответил Соха с уверенностью человека, выполняющего важное задание. – Мне приказали от него избавиться.
Соха отвечал настолько убедительно, что немцы оставили его в покое. Закончив, Соха закрыл люк и запомнил место его расположения. С помощью Ковалова он нарисовал схему маршрута. Отец, Оренбах, Берестыцкий и Корсар отправились туда на следующий же день. Картошки было так много, что унести все за один раз было просто невозможно, и поэтому им пришлось несколько раз сходить туда и обратно. Наконец они перетаскали всю картошку во Дворец и свалили ее между лавочками. Куча была огромная, и нам оставалось надеяться только, что мы будем есть ее быстро, чтобы нам досталось больше, чем крысам.
Еще я помню, как Павел поскользнулся и, кажется, сломал ногу. У нас не было ни гипса, ни материалов для того, чтобы наложить шину. Соха не имел возможности добыть такие медицинские товары или купить обезболивающее, а посему Павлу осталось только несколько недель сидеть без движения и ждать, пока срастется кость. К счастью, нога зажила довольно быстро.
А в другой раз в нашем убежище случился небольшой пожар, чуть не погубивший нас всех, т. е. чуть было не сделавший то, чего не смогли сделать немцы. Вайнбергова варила суп, и у нее перевернулся примус. Это был настоящий пожар. В одно мгновение огненный шар разросся до масштабов, опасных для обитателей крохотного бункера. Деться нам было некуда. Мы бы наверняка сгорели или задохнулись, если б Корсар с папой не набросили на горящий примус одеяла. Но тут загорелось одно из одеял. Затем кто-то решил забросать огонь использованным карбидным порошком. Я уже говорила, что мы сваливали его в кучу на краю Дворца. Мужчины горстями кидали отработанный карбид на открытое пламя. Дело пошло на лад. В то же время мама с Кларой затыкали маленькое отверстие, ведущее из убежища на улицу – чтобы нас не выдал поваливший на улицу дым. Сами того не думая, они перекрыли единственный в бункере источник поступления кислорода. В результате этих одновременных действий пожар был потушен – в тот момент, когда нам всем уже нечем стало дышать! У всех обгорели волосы и брови, а лица покрылись сажей…
Пришедшие на следующий день Соха с Вроблевским похвалили нас за героизм и изобретательность, но нам казалось, что в те страшные 10–15 минут мы вовсе не проявили ни того, ни другого. Скорее, с пожаром удалось справиться чисто случайно, предприняв все, что может прийти в голову людям, оказавшимся в почти безнадежном положении.
Еще я помню, как месяцев через семь подземной жизни мы с Сохой и Вроблевским праздновали Рождество. Соха говорил об этом несколько месяцев. Он считал, что раз уж он отпраздновал с нами еврейский Новый год, мы, в свою очередь, обязаны отметить с ним его праздник. Я даже представить не могу, как Сохе с Вроблевским удалось убежать от своих семей в такой важный день, но они провели почти все рождественское утро и большую часть дня с нами. Они принесли с собой водки с бутербродами, и бункер наполнился весельем. Папа беспокоился, что Соха и Вроблевский выпьют лишнего и разболтают о нас. Папа не пил, но при необходимости мог притвориться, что выпивает, чтобы поддержать компанию. Он наливал себе водки, а потом тайком выливал ее на пол, надеясь, что таким образом меньше спиртного достанется нашим спасителям. Позднее мы выяснили, что у Сохи были точно такие же опасения в отношении Вроблевского. Каждый вечер по пути домой Вроблевский предлагал зайти куда-нибудь выпить, и это вызывало у Сохи беспокойство. Он не сомневался в честности и преданности своих товарищей, но не знал, как они поведут себя выпивши. Мало того, он не был уверен и в себе самом и поэтому решил, пока мы будем находиться под его защитой, не принимать больше одного-двух стаканчиков…
Конечно, мы отмечали еще и дни рождения или юбилеи, но все эти праздники были для нас не столько праздниками, сколько поводами поздравить себя с тем, что нам удалось дожить до очередной важной даты, несмотря ни на что. Особенно пышный праздник Соха устроил на день рождения моей мамы. Он восхищался тем, как она заботилась о своих цыплятах, как ухаживала за бабулей, как поддерживала других женщин, как достойно переносила тяготы и лишения. В тот день он опять принес водки, и моему отцу снова пришлось притворяться, что он пьет больше, чем обычно…
К этим праздникам наш папа всегда готовил какой-нибудь спектакль. Он писал пьески, сатирические сценки или перекладывал на новый лад популярные песни. Сценки были пародиями на членов нашей группы, и мы смеялись над ними до слез. В песенках, тексты которых были построены на игре слов, как правило, высмеивались мы сами или наши приключения. Папа верил, что наше положение не столь безнадежно, чтобы над ним нельзя было посмеяться. У Галины тоже было весьма острое перо, и мы периодически включали в наши представления ее стихи и басни.
Боковой закоулок Г-образной комнаты служил кулисами, и туда мы уходили готовиться к спектаклям. В нашей монотонной жизни было слишком мало интересного, а поэтому мы с огромным удовольствием участвовали в этих спектаклях. Ролей хватало всем, да только не все хотели выходить на сцену. Насколько я помню, Геня Вайнберг и Хаскиль Оренбах не принимали участия в таких представлениях. Он считали, что, ставя эти пьески для Сохи с Вроблевским, мы впустую тратим время. Но для нас они были возможностью напомнить себе, что мы все еще цивилизованные люди, что мы способны заниматься творчеством, что мы остаемся человеческими существами. Помню, как, подняв голову от тетрадки, в которой училась писать, видела, что папа увлеченно строчит что-то в карманном ежедневнике за 1938 год, специально для этой цели принесенном ему Сохой, и знала, что скоро будет готова очередная сценка.
Эти отклонения от унылой рутины были для нас самой жизнью. А самые драматические из них и впрямь закончились появлением новой жизни и двумя смертями. Рождение ребенка, конечно, стало неизбежным следствием беременности Вайнберговой, которая для нас, живших с нею, никаким секретом не была. Соха же не подозревал о ее состоянии до самого конца. Мы так долго оттягивали момент разговора с Сохой на эту тему, что рассказали ему все в самый последний момент. Мама с папой отвели его в сторонку и объяснили, что происходит. Как сказал папа, Соха был в шоке. Он вспомнил все, через что нам пришлось пройти за это время, и представил себе, каково было переносить эти тяготы беременной женщине. Потом он спросил, можно ли принять роды в такой антисанитарии, затем забеспокоился, как обеспечить уход ребенку и скрыть его плач… Конечно, новорожденный малыш рано или поздно выдал бы нас своим криком. Никто не знал, что делать. В конце концов Соха просто всплеснул руками и сказал: