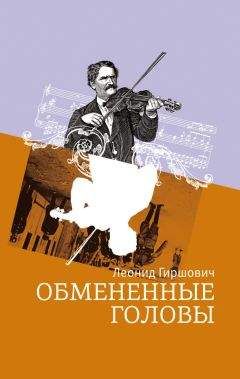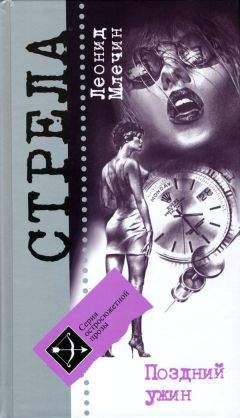Примо Леви - Периодическая система
Что было делать? Персонаж Мюллер, что называется, «hatte sich entpuppt»[60], обрел свой облик, сфокусировался. Не мерзавец и не герой; если отфильтровать риторику и вольную или невольную ложь, получим типичный экземпляр серого человека, который (и таких было немало), живя в стране слепых, видел, пусть и одним глазом. Мне он оказал незаслуженную честь, наградив меня добродетельным даром любить своих врагов. Но хотя он и не враг мне в строгом понимании этого слова и к тому же в давние времена оказал мне благодеяние, я не мог его полюбить. Не мог полюбить и не хотел с ним встречаться. Впрочем, определенного уважения он заслуживал: нелегко ведь быть одноглазым. Он не был ни равнодушным, ни бесчувственным, ни циничным; свои отношения с прошлым он так и не выяснил, хотя пытался или делал вид, что пытается. Впрочем, какой спрос с человека, служившего в СА? Правда, если сравнивать его с другими добропорядочными немцами, которых я имел возможность встречать на пляже или у себя на предприятии, сравнение будет в его пользу. Он осуждал нацизм застенчиво, обиняками, но никогда его не оправдывал. У него была совесть, и он пытался ее успокоить, поэтому так хотел встретиться со мной, поговорить. В своем первом письме он писал о «преодолении прошлого», о «Bewaltigung der Vergangenheit». Позже я узнал, что это – стереотипное выражение в сегодняшней Германии, эвфемизм, означающий «освобождение от нацизма». Корень слова «Bewaltigung» – «wait», оно встречается в таких словах, как «Gewaltherrschaft» (тирания), «Gewaltanwendung» (жестокое обращение), «Vergewaltigung» (насилие), и я думаю, что, если мы переведем выражение «Bewaltigung der Vergangenheit» не как «преодоление», а как «искажение прошлого» или «насилие над прошлым», мы не будем далеки от истины. Но даже попытка защититься общими словами лучше не замутненной сомнениями твердолобости некоторых немцев. И пусть его попытки преодоления были наивны, нелепы, смешны и даже в какой-то степени жалки, они вызывают уважение. И еще: разве он не помог мне с обувью?
В первый же выходной день я принялся сочинять ответ. Написать достойно и искренне, обойдя при этом острые углы, – это была непростая задача, и я решил сначала набросать текст начерно. Я поблагодарил его за то, что он взял меня в лабораторию, уточнил, что готов прощать врагов и даже, возможно, любить их только в том случае, когда они проявляют признаки раскаяния, иначе говоря, перестают быть врагами. В противном случае, если враг остается врагом и продолжает упорствовать в своем стремлении причинять страдания, его прощать нельзя. Можно попытаться его переубедить, можно (и нужно) спорить с ним, но наш долг судить его, а не прощать. Что же касается его тогдашней позиции и моего мнения о ней, я, вместо ответа, которого он от меня ждал, деликатно привел два известных мне случая, когда немцы, его коллеги, не побоялись сделать для нас куда больше, чем сделал (по его утверждению) он. Я признавал, что не все родятся героями и что мир, в котором все были бы такими, как он, то есть порядочными и безоружными, был бы толерантным, но абсолютно нереальным миром. В реальном мире существуют люди с оружием, они строят Освенцим, а порядочные и безоружные прокладывают им путь. Поэтому за Освенцим должен отвечать не только каждый немец, но каждый человек вообще, и после Освенцима оставаться безоружным недопустимо. О встрече на Ривьере я в письме умолчал.
Тем же вечером Мюллер позвонил мне из Германии. Воспринимать немецкий на слух мне затруднительно, да и слышимость была плохая; его голос звучал напряженно, казалось, от волнения у него перехватывает дыхание. Он сообщил, что на Троицын день (до которого было еще шесть недель) приедет в Финале Лигуре; не могли бы мы там с ним встретиться? Вопрос застал меня врасплох, и я ответил утвердительно, только попросил ближе к делу подтвердить свой приезд и отложил в сторону почти законченное и уже ненужное письмо.
Восемь дней спустя я получил от госпожи Мюллер извещение, что ее муж, доктор Лотар Мюллер, скоропостижно скончался на шестьдесят первом году жизни.
УГЛЕРОД
Читатель, должно быть, давно заметил, что перед ним не научный труд по химии: не настолько уж я самоуверен, чтобы браться за подобные дела, тем более что «ma voix est foible, et même un peu profane»[61]. Это и не автобиография, если не считать автобиографическим в той или иной степени любое сочинение, более того, любое человеческое деяние. Скорее всего, можно сказать, что это – история. Или, если хотите, микроистория, история одной профессии и связанных с ней поражений, лишений и побед, потребность рассказать о которых возникает тогда, когда человек начинает сомневаться, что искусство вечно, и осознает, что его карьера завершает круг. Достигнув такого момента в жизни, этот человек, если он – химик, наверняка вспомнит при взгляде на Периодическую систему химических элементов Менделеева или на таблицы Ландольта и Бейльштейна о трагических обломках или победных трофеях своего профессионального прошлого. Ему достаточно перелистать любое пособие, любую научную работу, чтобы нахлынули воспоминания: кто-то неразрывно связал свою судьбу с бромом, кто-то – с пропиленом, кто-то – с группой NCO или с глютаминовой кислотой. Каждый студент химического факультета, беря в руки тот или иной учебник, должен понимать, что на одной из его страниц, возможно, всего на одной строчке или даже в одном-единственном слове, в одной формуле заключено его будущее, прочесть которое ему пока не дано: оно прояснится потом – после удачи или неудачи, победы или поражения; а каждый уже не молодой химик, открывая «verhängnisvoll»[62] тот же самый учебник, испытает прилив любви или отвращения, радость или отчаяние.
Таким образом, каждый элемент кому-то что-то говорит (всем – разное), вызывает определенные ассоциации, как горы или морской берег, где человек побывал в юности. Исключение можно сделать, пожалуй, лишь для углерода, который всем говорит одно и то же и, следовательно, является не специфическим, а всеобщим, как наш всеобщий предок Адам. Впрочем, возможно (почему бы нет?), существуют сегодня химики-столпники, посвятившие всю свою жизнь графиту или алмазам. Я же в долгу перед углеродом, и долг этот возник давно, в решающие для меня дни. К углероду, элементу жизни, были обращены мои первые литературные помыслы, настойчиво заявившие о себе в те времена и в тех обстоятельствах, когда жизнь моя стоила немного. Так вот, тогда мне захотелось рассказать историю одного атома углерода.
Допустимо ли говорить об одном атоме углерода? У химика на этот счет должны возникнуть определенные сомнения, потому что на сегодняшний день (в тысяча девятьсот семидесятом году) еще не известны способы, позволяющие увидеть, а значит, выделить единичный атом углерода; что же касается автора этой книги, у него на сей счет никаких сомнений не возникает, что дает ему право приступить к рассказу.
Итак, наш герой, связанный с тремя атомами кислорода и одним атомом кальция, вот уже сотни миллионов лет обитает в известковых скалах. За спиной у него долгое космическое прошлое, но мы его опустим. Время для него не существует, а если и существует, то лишь в форме температурных изменений, дневных или сезонных, причем только в случае, если, к счастью для нашего повествования, он залегает неглубоко от поверхности. Его монотонное существование, о котором нельзя думать без содрогания, – это безжалостное чередование жары и холода, температурные колебания (с неизменной частотой и чуть менее или чуть более широкой амплитудой); живым его можно назвать лишь условно; его плен достоин сравнения с католическим адом. Ему все еще пока соответствует настоящее время, время рассказа, а не прошедшее, время рассказчика. Он вмерз в вечное настоящее, на котором умеренные тепловые колебания почти не оставляют следа.
Но к счастью для рассказчика, известковый пласт, в котором обитает наш атом, лежит на поверхности, иначе и рассказывать бы было не о чем. Обитает он в пределах досягаемости человека с киркой (да здравствуют кирка и ее более современные модификации; они и по сей день главные посредники в тысячелетнем диалоге химических элементов с человеком). В секунду, которую я, рассказчик, волен отнести к любому, хоть к тысяча восемьсот сороковому году, удар кирки отколол атом углерода и отправил в печь для обжига известняка. Оказавшись в мире меняющихся вещей, он поджаривался до тех пор, пока не отделился от атома кальция, продолжавшего, как говорится, твердо стоять на ногах, и двинулся навстречу своей судьбе. Крепко вцепившись в двух из трех своих прежних товарищей (мы имеем в виду атомы кислорода), он вышел через трубу и присоединился к воздуху. Неподвижное существование сменилось подвижным.