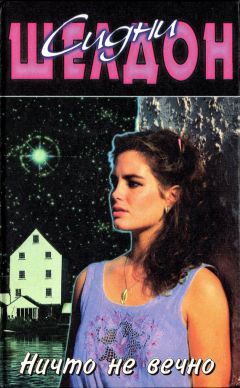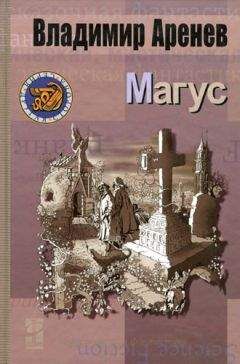Николай Гарин - Таежная богиня
Это подтвердилось, когда однажды Матвей решил попробовать что-то вырезать из сучковатого соснового бруска. “Что ты хочешь выразить?” — спросил Алексей Алексеевич. “Не знаю...” — честно ответил Матвей. И тогда скульптор поведал ему, как материал должен ответить на его замысел.
— Дерево, — начал осторожно Алексей Алексеевич, — пока росло, впитывало в себя не только солнечную или земную энергию, оно впитывало звуки леса, цвета, летнюю нежность и жестокость зимы. И все это в нем сохранилось. В каждом его годовом кольце масса информации, памяти, чувств. Оно было живым, когда росло, и осталось живым, только в ином состоянии, когда высохло. Это, наверное, трудно понять умом. Тут надо душой чувствовать, сердцем, — совсем без пафоса и назиданий говорил он. — Вот смотри, — вытерев руки тряпицей, Алексей Алексеевич взял заготовку Матвея. — Ничего особенного, деревяшка как деревяшка. Из нее можно вырезать все, что захочешь. Так, нет? Но раз все, что захочешь, значит, ничего особенного. Функционально — да: ручку, ложку, черенок. А вот художественную вещь сделать из нее будет невозможно. Чтобы сделать художественное произведение, надо найти то, что заложено в нем самом. А в нем заложена тайна.
Матвей слушал странного художника внимательно.
— Давай проведем эксперимент, — Алексей Алексеевич лукаво посмотрел на Матвея. — Распили вот этот брусок на две равные части. Из одной части вырежи то, что хотел, а вот со второй поступим иначе. Вторую, дорогой мой, ты все время носи с собой. Носи постоянно и, даже ложась спать, клади ее под подушку. И все это время ничего не замышляй, просто держи в руках как можно чаще.
— И что?
— Сам увидишь со временем. И не торопись.
— Так сколько ее носить-то с собой? — спросил Матвей, представляя себе, как будет повсюду таскать с собой брусок, да еще на ночь класть под подушку.
— Если все условия правильно будешь выполнять, то она сама подскажет, когда и что с ней делать, — скульптор смотрел на него с теплотой, продолжая лукаво улыбаться. — Ты читал сказку о царевне-лягушке?
— Конечно.
— А ты еще раз прочитай, да повнимательнее.
Матвей так и сделал. Он распилил брусок, одну половинку сунул в карман, а из другой начал вырезать женскую фигурку. Он и раньше вырезал из дерева всевозможные фигурки зверей, игрушки. Однажды даже целую машинку с полукруглыми крыльями вырезал и подарил соседскому пареньку.
Работал Матвей с увлечением. По наброску на бумаге он резал брусок споро и довольно грамотно. Скульптор следил за ним с бесстрастным выражением лица и что-то тоже лепил. К вечеру из обыкновенного бруска у Матвея получилась довольно-таки ладная девичья фигурка. Зачистив ее наждачной бумагой, он поставил изделие на полку для готовых работ. Едва поставил, как рядом с его изделием появилась точно такая же фигурка Алексея Алексеевича, только из глины.
— Ну, что скажешь? — спросил скульптор.
— А что говорить-то? — Матвей удивленно глазел на глиняную фигурку. — Похоже...
— И только? — с лукавинкой в глазах смотрел на него скульптор. — Я бы хотел тебя спросить о художественных достоинствах этих двух работ.
— Ну-у, не знаю, — не сразу нашелся Матвей и понял, что здесь какой-то подвох.
— Действительно не знаешь. Ни в твоей, ни в моей работе нет ничего интересного. Это просто уменьшенные копии женской фигуры. В них нет ни мысли, ни чувств, ни удивления, короче говоря, никаких эмоций. А художественно — это в первую очередь эмоционально.
Матвей терпеливо таскал с собой вторую деревянную баклажку. Он не расставался с ней даже на лекциях. Ведя конспекты правой рукой, левой сжимал ее под столом. Через неделю он не выдержал и перочинным ножом срезал ее острые углы. Еще через неделю сделал выемку для большого пальца. Потом еще и еще, пока пальцам не стало удобно обнимать деревяшку с любой стороны. После чего он вдруг сделал сквозную прорезь с одного конца, потом добавил еще одну, совсем крошечную, с помощью сверла. Придя как-то с занятий, он слегка обжег древесину, а затем снял небольшое обугливание мелкозернистой наждачной бумагой. В результате поверхность бывшего бруска стала ступенчатой из-за выступающих смоляных слоев с глубокими провалами между ними.
Все это время Матвей не размышлял над своими действиями. Казалось, руки сами знали, что делать с заготовкой до тех пор, пока она сама не остановила их. Матвей вертел ее в руках и не верил глазам. Брусок превратился в изящную по силуэту и пропорциям, изысканную по фактуре вещицу. Ничего больше нельзя было ни отнять у нее, ни добавить. Изделие ни на что не походило и ничего не напоминало. Оно было свежо в своем образе и красиво. Мало того, оно, как нечто живое, просилось в руки, ласкалось и не хотело с ними расставаться. Матвей был поражен.
Когда он примчался к скульптору, тот, улыбаясь, долго крутил изделие в руках, радуясь за своего ученика.
— Убедился? — только и спросил он Матвея.
— Значит, подобное может сделать каждый, если будет строго соблюдать метод? — задал Матвей скульптору мучивший его вопрос.
— А сам-то ты как думаешь? — вопросом на вопрос ответил тот, продолжая обезоруживающе улыбаться.
— Не знаю, — честно признался Матвей.
— Процесс художественного творчества — божий промысел, как бы сказал философ в старые времена. Я могу с ним только согласиться.
Это был первый переломный момент в творчестве Матвея. После этого он будто начал жить в еще одном измерении — внутреннем. Ему казалось, что он стал слышать, как растет трава, как вздыхает земля под колесами грузовиков, как стонет от боли сломанное дерево. У Матвея было ощущение, что с него неожиданно сошла кожа и он чувствует своим телом малейшее колебание воздуха, тончайшие звуки, перепады температур, электромагнитных волн...
Матвей стал иначе видеть натуру. Ему было недостаточно просто изображать виденное. Теперь ему хотелось передать прозрачность, запах, печаль или радость, внутреннее напряжение или покой. Работы получались нетипичные и непонятные для многих. И чем более непонятными для окружающих были работы, тем с большим азартом он уходил в глубину своего внутреннего мира.
Первым, кто понял своеобразный стиль Матвея, был Аркадий Сергеевич Фомичев, известный свердловский художник, член правления Союза художников.
Экспрессивный, порывистый и в движениях, и в разговоре, и в принимаемых решениях, он первым почувствовал смысловую глубину работ Матвея. Прославленный художник сразу понял, что перед ним необычайно талантливый, тонко чувствующий мир художник. И, вероятнее всего, его ждал невиданный успех и признание...
Впервые Матвей увидел Урал на практике после четвертого курса. Долгая дорога от Ивделя по разбитому и заболоченному тракту-зимнику, через Бурмантово до маленького поселочка Суеватпауль Матвею показалась каторгой. Голод, который постоянно преследовал молодых практикантов, черные, звенящие тучи комаров и совершенно раздолбанный ГАЗ-53, который приходилось чуть ли не на руках выносить из каждой лужи, а лужи тянулись бесконечной вереницей. Дальше — больше. Ладно, если дождь идет час или два, пусть даже день, но если льет неделю и не собирается останавливаться? И каждый вечер, когда разжигаешь костер, нет ни огня, ни тепла, только дым, и ты лезешь в мокрую палатку снова голодным, искусанным комарами. Мокрый от дождя и пота, всовываешься в мокрый спальник и просыпаешься оттого, что твои ноги лежат в луже. А утром все тот же дождь, острые лямки, пружинистый мох под ногами, скользкие камни, комары и впереди бесконечность. Какая уж тут романтика!
...Но вот ты на вершине Отортена, горы не столь уж и высокой — 1182 метра над уровнем моря, но красивой и величественной. Над головой только чистейшее небо, а внизу, прямо под ногами, под почти отвесным обрывом, озерцо, из которого выбегает ручей, а через несколько километров превращается в могучую реку Лозьву. От масштабов и божественного простора у Матвея сердце готово было выскочить из груди, а по всему телу бежали мурашки.
Ребята были далеко внизу. Они не стали подниматься на вершину и теперь маленькими черными точками двигались по ручью к месту их стоянки. А Матвея гора удержала. Она взметнула его вверх и, держа на своей вершине-ладони, хвастливо демонстрировала своему гостю фантастические пейзажи, раскинувшиеся вокруг. Матвей крутил головой, то и дело ахая от невиданной им доселе Земли. Его поражали вершины и их бесчисленные отроги, гладкие обширные склоны, прорванные скальными выходами, огромные, покрытые изумрудными мхами и пестрыми лишайниками глыбы, змейки рек, тянувшиеся то ли хвостами, то ли головами к подножиям гор... Поражало настолько, что в голове то и дело проскакивала мысль: “А Земля ли это?”
— Лунт-Хусап — “Гусиное гнездо”, — вслух проговорил Матвей, словно поясняя кому-то стоящему рядом. — Или Лунт-Хусап-Сяхл — “Гора гусиного гнезда”, — добавил он немного нараспев, точно проверил название на звук. Перед подъемом он начитался странных и красивых названий окружающих вершин, запомнил их расположение на карте и теперь отгадывал, произнося вслух.