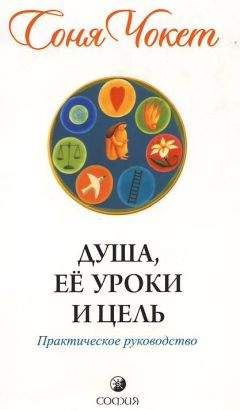Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 11 2006)
Профессор ИФЛИ философ Гагарин15 говорил на лекции: «Одной ногой Гегель завяз в феодализме, а другой бурно приветствовал надвигающийся капитализм». Он же на вопрос студента о различии литературных школ ответил таким сравнением: «Если человек в пиджаке и брюках, то это реализм, а если он в нижнем белье, то это, напротив, натурализм»...
Н. хвалит «Давным-давно» по пушкинскому рецепту: если мне никто не станет платить за подлость, то лучше я буду даром честным человеком. Приблизительно так он объяснял Т. свою позицию.
Блок записал в дневнике, что романы Брешко-Брешковского ближе к Данту, чем Брюсов16. Очень это понимаю.
Двоюродный брат Ш.17 прислал с фронта письмо, в котором пишет: «...наши соседи в Одессе сообщают, что румыны увезли к себе наше пьянино. Но знай, мама, мы доберемся до их звериного логова и отомстим этим гадам за все их кошмарные преступления...»
Однажды И. Соллертинского18 позвали на прослушивание новой оперы. Безнадежно бездарно. Во время обсуждения, где всякими обиняками все же высказали правду, он молчит. Постепенно дипломатия и вежливость создали картину, что надо еще «поработать» и все будет в порядке. Какой-то приспешник композитора заявляет, что неудачна только оркестровка, а в клавире все было превосходно. И тут Соллертинский его прерывает: «Это все равно, что сказать: сперматозоид был красавцем, а ребенок вышел урод...»
Олеша ходит в каком-то балахоне, который трудно назвать пальто: седой, обросший белой щетиной, похожий на героя своего старого рассказа «Нищий». Удивительно точно он предугадал свое будущее. А может, и не предугадал, а вообразил, представил, и оно потянуло его в себя, как тянет бездна. В его падении есть что-то трагическое, и уж во всяком случае в нем больше достоинства, чем в неизменном процветании его старых друзей. Иногда он пишет для «Огонька» бледные, халтурные очерки, в которых только тень прежнего стилистического изящества. Зачем-то взялся переделывать для театра «Пятнадцатилетнего капитана». Недавно Арбузов говорил о нем с высокомерной брезгливостью, разоблачая свою пошлость19.
Олеша говорит мне: «Расскажите о новых книгах. Я уже давно не читаю ничего нового, а только перечитываю...» Я рассказываю о недавно вышедших романах Мориака, Сарояна, Фаллады. Он не очень верит, что это хорошо. Потом он признается, что часто бывает неспособен на усилие, необходимое, чтобы войти в мир новой книги. Должно быть, это и называется старостью.
Наконец ему немного повезло, и он снова по целым дням сидит в «Национале». У него даже появились большие деньги. По его словам, он получил 70 тысяч. Как он мне пытался отдать долг. Еще он получил за «Дневник» в «Литературной Москве» и за инсценировку «Идиота» в Театре Вахтангова. Он пьет понемногу целый день и почти все время пьян. Уходя ночью домой, он берет с собой бутылку коньяка или портвейна. Ему ее приносит официантка завернутой в бумагу, и он засовывает ее во внутренний карман пиджака. Вчера (28 января 1957 г.) я провел с ним и А. П. Старостиным20 почти весь день. Вечером он сказал как-то грустно: «Я, кажется, уже так пьян, что даже не могу перевернуть стол, как это ни необходимо...» Один дурак, присевший за наш столик, заинтересовался: «А почему это необходимо, Юрий Карлович?..» Олеша кричит: «Как, он не понимает? Что же он тогда понимает? Скажите ему, что бывает момент, когда совершенно необходимо перевернуть стол. Но я уже не могу».
Как обычно, в дни внутреннего разброда и хаоса берусь за Герцена. Читал письма и статьи последних лет и «С того берега». Удивительно! Что-то еще туманится, сгущается, скапливается, собирается в мыслях еще без слов, а открываешь Герцена — и оказывается, что почти все нужное и робко напрашивающееся на язык уже сказано им, и превосходно, даже не сказано, а как бы отлито в такие чудесные и богатые словесные формулы, что только диву даешься. Думаешь: как же так, стало быть, все повторяется и все это уже было и при Герцене. Потом понимаешь, что многое именно Герцен говорил про историю, так сказать, «на вырост»: он предугадывал, предвидел, иногда с надеждой, но чаще с тревогой. Он видел будущее (т. е. наше настоящее) в своем настоящем. И многое, чего он опасался, увы, сбылось... И все же чтение это приносит радость. Нельзя не любоваться гордым и смелым умом, не терпящим поблажек и условностей, проницательным и всепонимающим. У Герцена необыкновенно развита историческая интуиция. Он гениально догадывается . Его оценки иногда кажутся преувеличенными по отношению к текущей данности, превосходящими повод, по которому они высказаны, но, примененные к большому отрезку истории, поражают точностью. Какую книгу о нашем времени можно было бы написать под скромным названием «Читая Герцена».
В «Огоньке» публикация о Булгакове, пишущем пьесу о Сталине. Для многих либералистов это почти удар, покушение на разрушение мифа. И сразу гнев направляется на редакцию журнала, т. е. на мотивы, по которым это напечатано. Но какое нам дело до мотивов, если все это правда. Я давно слышал это от мхатовцев, и для меня фигура Булгакова от этого стала еще более драматической, как и написанный им Мольер, который льстил королю и только тем и держался. Но все же слащавый и примерный образ гордого, несгибаемого рыцаря литературного подполья, создаваемый Лакшиным и другими, очень поколеблен. Эти люди во имя разрушения мифов одного рода сами усердно создают новые мифы. Однако, когда я пытался рассказывать все, что я знаю о Булгакове, мне почти не верили (как, например, А. К.) и даже сердились на меня.
Однажды Мейерхольд на репетиции «Наташи»21 в эпизоде «Снежная горка» попросил молодого актера К. пропеть, почти прокричать две строки частушки. Но К. считал, что он не умеет петь, и стеснялся. Эпизод повторяли множество раз, и все К. молчал. А Мейерхольд кричал из зала: «Ну пой же, К.! Не важно как, но пой!» — (К. молчит). «Ну я тебя прошу, пой! Господи, за что мне такое наказание? Соври, но спой! Соври, но спой! Соври, но спой!..» Иногда мне как бы слышится этот голос Всеволода Эмильевича, когда я не решаюсь на что-то, опасаясь, что не выйдет. И я себе говорю: «Соври, но спой! Соври, но спой!..»
В книге скульптора И. Гинцбурга22 «Воспоминания, статьи, письма», изданной в Ленинграде в 1964 году, сделана купюра в воспоминаниях Гинцбурга о Серове о том, как Серов вышел из состава Совета московского Училища зодчества и ваяния оттого, что Совет подчинился предписанию градоначальника исключить способного ученика «лишь потому, что тот — еврей»... В первом издании воспоминаний Гинцбурга (1924 г.) это место имелось. Об этом в книге «В. Серов в воспоминаниях, дневниках современников». М., 1971, стр. 202 — 203. Ленинградские редактора откровенно уподобили себя царскому градоначальнику!
...В это время в литературе появился поэт Луговской. Он вмиг переплюнул Маяковского разворотом плеч, басом да еще вдобавок, сверх комплекта, густейшими бровями. И хотя он все это получил не по литературному, а по генетическому наследству, он и в стихах преувеличенно двигал плечами и хмурил брови, сразу смяв позой некрупное свое дарование. Есть люди, всей душой любящие суррогаты, — он стал их поэтом: Маяковским, разбавленным сладкой рапповской водицей, Киплингом, перепертым на язык родных осин. Мужественный импотент, суровый неврастеник, рыцарь в картонных латах, — в мирное время он ходил в гимнастерке с командирской портупеей и ездил на все маневры, а во время войны лечил разгулявшиеся нервы водкой в Ташкенте. Миша Светлов сказал про него: он памятник, пропивший свой пьедестал. Налитпостовские вожди ставили его в пример Маяковскому, и он умел свое хилое послушание выдать за дисциплину солдата. Накануне разгрома РАППа он поместил в газете огромную декларативную статью «Почему я вступил в РАПП». В середине 37-го года он печатал стихи под красноречивым названием «К стенке подлецов», а в конце пятидесятых скорбел белыми стихами о трагедии 37-го года. Это был высокосортный хамелеон, наделенный способностью плакать по ночам в подушку. Характерно, что, несмотря на внешнюю двухсотпроцентную мужественность, женщины не любили его: они в этом отношении более чутки, чем критики. Но и он нашел своих апологетов, биографов, исследователей...23
Михаил Зощенко после периода остракизма послал в «Новый мир» обработанные им рассказы ленинградских партизан. Его редакция вызвала в Москву. Отдельный номер в гостинице «Москва» получить ему не удалось. Дали место на 12-м этаже, в номере-общежитии на 8 человек. Кроме него 7 обыкновенных командировочных-толкачей. Никому ни до кого нет дела. Возвращаются поздно, прочитывают «Вечерку» и засыпают. Зощенко ждал звонка, но в номере телефона не было. И вот в один вечер дежурная входит и говорит: «Писателя Зощенко к телефону...» Хохот. Чей-то голос: «А его давно посадили...» Зощенко встает и идет к телефону. Сенсация.