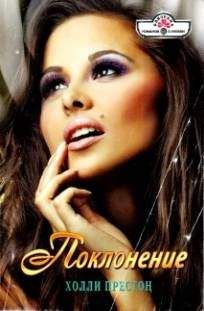Иван Зорин - Дом
Слова, слова. Кочующие по эпохам, как тарелки, наполняемые разным содержанием, затёртые, захватанные, они презирались Лукой; наделённый видением иного рода, он знал, что бытие течёт вне причин и следствий, точно так же, как мысль − вне слов, от рождения чувствуя их пустоту, он умело перебирал их скорлупки, в которые не вкладывал души, и, точно напёрсточник, всегда оказывался в выигрыше, слывя красноречивым и убедительным.
Рядом с закусочной поставили туалеты, но из-за очередей, особенно к вечеру, мочились где попало, справляли нужду в кустах, гадили, как когда-то, во времена Академика, серые голуби, а мусорные баки были до отказа забиты обрывками газет, грязными салфетками, объедками, пластиковыми бутылками, пьяными разговорами, обещаниями и тоской. В часы работы закусочной во дворе шумели, веселились, галдели, отрывисто гудели клаксоны подъезжавших машин, от которых включалась сигнализация припаркованных, а ночью от всей дневной суматохи оставались лишь злобное урчание и блестевшие глаза рывшихся в мусоре тощих кошек.
В трёх комнатах на первом этаже пищевая компания из благотворительности устроила пансион для умственно отсталых. «Жаль, инвалид из третьего подъезда не дожил», − осмотрел его Лука. Он пришёл как домоуправ, обязанный согласовать с жильцами открытие в доме приюта, но незаметно для себя стал проводить всё больше времени в его стенах, среди его бесхитростных обитателей, оставшихся детьми. Там он отдыхал, раскладывая вместе с ними кубики и раскрашивая контурные картинки, вспоминал себя ребёнком, беспомощно и доверчиво глядевшим из-за материнской юбки, улыбался, снова становясь Прохором. Он горстями раздавал леденцы, улучив момент, когда дремала на стуле Юлия Августовна Зима, дряхлая воспитательница, которую от старости не спасали даже фиалковые духи. «Тё-тя заругает», − испуганно озираясь, разбирали конфеты, пряча за щеку, и Прохор-Лука думал, что ангелы в раю, наверняка, лишены привычного нам житейского разума. «Э-э, дя-дя, − протягивали ему разрисованный пакет, набитый тряпьем, − вот кукла…» И он баюкал её на руках, тихо напевая: «Чтобы любить тебя, не надо любить себя, чтобы любить себя, не надо любить тебя», — а потом шёл к Порфирию Кляцу, стучал кулаком, требуя документы на использование жилых помещений. Кляц щурился, вставал из-за стола и без единого слова находил с ним общий язык, опуская в карман мятые купюры. Лука брал деньги, которые ему были не нужны, чтобы напомнить о своих правах, а подачки Кляца анонимно переводил в пансион для умственно отсталых.
От грязи двор напоминал птичий, и первым не выдержал Артамон Кульчий.
− Это безобразие, − нависал он над Порфирием Кляцем колодезным журавлём, так что видел каждую волосинку на его плешивевшей макушке. — Убирайтесь со своей обжоркой! Жили без вас! Кто вас звал?
− Время, − мгновенно отпарировал Порфирий Кляц, выставив вперёд жирные пальцы. — Во-первых, вы не жили, а существовали, во-вторых, вас не трогали, пока с вас нечего было взять, и, в-третьих, нечего кулаками махать, не я выдумал законы экономики.
− Конечно, − вздохнул у него за спиной чёрный человек с приклеенной на щеках, как наждачная бумага, щетиной. — Их выдумал я.
У Артамона Кульчего глаза полезли на лоб.
− Кто ты? − пробормотал он.
− Я? — удивился Порфирий Кляц. — У меня же на двери табличка. − Так Артамон Кульчий понял, что он не видит чёрного человека. — А вот кто, собственно, вы? Поэт? Человек, потерянный для общества?
− Точно, − зевнули в волосатый кулак у него за спиной. — Таким лучше и не жить, выкидыш — и тот полезнее.
− Это я потерян для общества? — взвился Артамон Кульчий, глядя на чёрного человека. — А почему? Потому что не купился на его обманку? Потому что свои глаза есть? И мысли в голове не воют от одиночества? А вам, вам думать телевизор не велит!
− Сдаюсь, — поднял руки Порфирий Кляц. — Вывел на чистую воду. Давно из дурки?
Артамон Кульчий побагровел, у него задёргался правый глаз, точно собирался поменяться с левым.
− Нет, я серьёзно, − добивал Порфирий Кляц, − по таким Юлия Августовна Зима плачет.
− Плачет, плачет… − эхом поддакнул чёрный человек, скребя ногтем щетину. — А она та ещё бяка!
Кляц беззвучно рассмеялся, его челюсть заходила, как на шарнирах, наводя на мысль, что была вставной.
− Плебей! — взвизгнул Артамон Кульчий, топнув ногой так сильно, что скорчился от боли. — И привёл плебеев!
− А ты возвышенный, под одеялом мастурбируешь, чтобы лишний раз жену не беспокоить?
− Жену? — расхохотавшись, высунулись из-за спины. — Да кто за него пойдёт?
Артамон Кульчий развернулся на каблуках, при этом его снова пронзила боль от пятки до макушки, и, выставив, как пистолет, указательный палец, уже в дверях бросил:
− Канальи, я объявляю вам войну!
− Иду на вы? − ухмыльнулся чёрный человек. − Не забудь вырыть томагавк.
− В сортире! — оскалился Кляц своей квадратной челюстью.
Так Артамон Кульчий понял, что Кляц всё же видел чёрного человека, что тот был его тенью. В слепой ярости Артамон бросился жаловаться Луке, долго искал его квартиру, заблудившись, словно в чужом доме, словно забыв про дворницкую, в которую раньше заходил без стука, пока не оказался перед собственной дверью, а бешенство внутри него, перекипев, не сменилось опустошающим бессилием и вселенской усталостью.
В закусочную валили толпами, дверь в неё не закрывалась, так что пришлось прорубить ещё один вход. Всесилие заокеанской компании было очевидным, и всё же Артамон Кульчий сдержал слово. «Вы ещё пожалеете!» − сжимал он кулаки, вспоминая, как его выставили, и это придавало ему злости. Разрываясь на части, он организовывал у закусочной круглосуточные пикеты, подбивал жильцов перегородить улицу живым щитом, связав канатом каменных львов, перекрыть мост баннером: «Ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть!» Он готов был, разведя краску, сам нанести на полотно аршинные буквы, лишь бы его поддержали. Объявив в знак протеста голодовку, он стал как жердь, у него выперли рёбра, лицо оборачивалось ладонью, а, когда он ораторствовал, его ветром шатало. На него плевать хотели, но он не сдавался, отдавая борьбе всего себя, тратил все силы, чтобы сплотить недовольных, пока однажды не обнаружил, что, блуждая в непроницаемых потемках своего безумия, размахивает кулаками перед деревом, а прохожие крутят ему у виска. Сгорая от стыда, Артамон Кульчий бросился в подъезд, поднимаясь на лифте, старался не смотреть в зеркало, как вдруг его охватило космическое чувство, он увидел песчинку, которую несло в необъятных звёздных просторах, увидел вцепившихся в неё людей, от головокружительного страха жалящих друг друга, увидел себя, борющегося с закусочной, как с собственной тенью, и от этого ему вдруг сделалось настолько легко, что он, спустившись на том же лифте, заказал в кухонном павильоне сразу все блюда.
В домовую книгу Артамон Кульчий всё же попал. Он был первым, кто взбунтовался против веяний времени, принёсших новые порядки. И остался последним.
Снег, мокрый снег. С карнизов девичьими косами свисают плачущие сосульки, и дворники, очищая ледорубами двускатную крышу, с грохотом сгоняют по водосточным трубам ледяное крошево. Уже прилетели грачи, рассевшись на деревьях, как на картине Саврасова, чистя в лужах перья, отливают зеленью юркие скворцы, и трясогузки щебечут о том, что все ждут весны, но не все дождутся. Похоронив вторую тётку, крашеную блондинку, приятель Антипа раскладывал в одиночестве пасьянсы, цепляясь за «Косынку» и «Марию Стюарт» с той же ненасытной жадностью, как раньше — за польский преферанс, и со временем выучил каждое пятнышко на своей замусоленной колоде, так что переворачивал карты рубашкой вверх только для вида. По утрам, доставая из стола колоду, помнившую ещё тепло рук его тёток, приятель Антипа не сомневался, что пасьянс сойдётся, точно так же как начавшийся день перейдёт в ночь, и это придавало ему уверенности в сегодня, в том, что он выстоит, продержится под напором его двадцати четырех часов, как брошенное в поле пугало под порывами тяжёлого весеннего ветра, а значит, в жизни избрал правильную линию защиты. Умер приятель Антипа тёмным зимним вечером, в одиночестве горбясь за карточным столом, в тот самый час, когда раньше, подвигая стул, садился за преферанс. Кинув прощальный взгляд на циферблат с застывшими стрелками, воскликнул: «Боже, меня заждались тётушки!»
С наслаждением вычеркнув его имя из домовой книги, Лука отметил, что старых жильцов остаётся всё меньше и меньше, но оборвал мысль, не дав ей развиться в ту, что со временем прибывает мертвецов. А они уже не давали ему прохода. Являясь без приглашения, эти незваные гости превратили его кладовку в проходной двор, каждый выкладывал ворох своих обид, мечтаний, надежд, унесённых на тот свет рождественскими открытками, в которых много сулили, и теперь, словно под ёлкой, мёртвые разыскивали обещанное у Луки, так что он всё чаще спрашивал себя: что делать с прошлым, куда его девать, как избавиться от его наваждения. Оно было как грязное бельё, которое в ожидании гостей распихивают по шкафам и которое всё равно вылезает в самый неподходящий момент. Дом пустел, сокращение числа его обитателей облегчало Луке бремя повседневных забот, ложившихся на плечи домоуправа, но работы хватало: Лука вёл тайные переговоры. Его теперь часто видели стучавшим в решётчатое окно, за которым обитал Порфирий Кляц. Он торговался, до хрипоты драл глотку, дерясь за каждую копейку ненужных ему, в сущности, денег, чтобы показать свою значимость, демонстрируя, кто в доме хозяин. А возвращаясь, вёл бесконечные споры с зачастившим к нему в последнее время Матвеем Кожакарем, уже век блуждавшим по дому, живым и мёртвым топтавшим его коридоры, путаясь в лабиринтах его злого, искривлённого пространства.