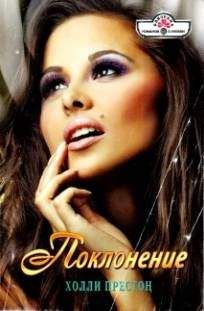Иван Зорин - Дом
Месяцы кружили стаей птиц, собираясь в годы, дом встречал и провожал солнце, а луна залезала в него, как вор. Закусочная разрасталась, к павильону сделали пристройку с небольшим торговым центром. Её директор, Порфирий Кляц, поселился при ней, как в собачьей будке, на первом этаже в квартире с решётчатыми окнами. Он оказался словоохотливым, любил давать советы, называя это пропагандой бизнеса, останавливал жильцов около подъезда, выкатив бульдожью челюсть, долго не отпускал, не подозревая, что за его спиной шептались: «Опять развёл свою бизнес-философию!»
− Учтите, я делаю это по-соседски, совершенно бескорыстно, − учил он Авессалома Стельбу и, перечисляя, загибал пальцы: − Во-первых, если тебе улыбаются, значит, от тебя чего-то хотят; во-вторых, если предложение кажется тебе чересчур заманчивым, значит, тебе чего-то не договаривают; и в-третьих, если ты не согласен с этими правилами, значит, ты дурак!
Кляц расхохотался.
− Что мы, разведчики на вражеской территории? — пожал плечами Авессалом.
− Почему? — в свою очередь удивился Кляц. — Вы же закрываете дверь в ванную? Такую же дверь надо иметь и внутри.
Их мысли, как шестерёнки, вращались с бешеной скоростью. Но в разных направлениях. На Авессалома смотрели молодые наглые глаза, и, не выдержав, он перевёл взгляд на закусочную, напоминавшую деревянную башню, которую возводят перед штурмом осаждённой крепости. «А если вы не чувствуете вони, − подумал он, − значит, у вас пропало обоняние». И отвернулся, глотая не пойми на что взявшуюся обиду.
− Приходите! − неслось ему вдогон. — По выходным для жильцов бесплатные обеды!
После этой беседы Авессалом долго думал, кто из них двоих повредился рассудком, а потом решил, что ему не пережить нашествие варваров с их тарабарским наречием и отсутствием памяти, позволяющим с бесцеремонным равнодушием относиться к чужой. Ему казалось, что его, как саван, накрывает пошлость, которая резала слух, мозолила глаза, а, попав в рот, жгла язык. «Главное в жизни — деньги», − доносилось из каждого угла. «В вашей!» − ядовито цедил он, повторяя это, как попугай, пока не уставал ворочать языком. Авессалом стал обходить за версту работников закусочной, он не мог больше выносить ни их завуалированных оскорблений, ни цинизма их лести. Единственное, чего он хотел, — чтобы они оставили его в покое. Он также понял, что умирают, не когда приходит смерть, а когда уходит жизнь. «Пора уходить, − решил он однажды, когда очередная зима возвестила о своём приближении ломотой суставов. — Пока не вытолкали». Не пережив своего одиночества, Авессалом нарисовал круг с мишенью напротив сердца, достал старенький пистолет, обёрнутый промасленной ветошью, не разворачивая, освободив лишь курок, направил дуло в грудь, долго целился, а, когда дал промах, удивился: «Странно, стреляя в воду, попадал в “десятку”!»
Когда Артамон Кульчий похоронил мать, то, не находя себе места, проводил всё больше времени под дубом, воображая смерть деда, с которой теперь слилась кончина Виолетты. Он спрашивал себя, встретятся ли они там, куда попали, не уточняя, рай это или ад, и найдут ли тогда общий язык? Или пройдут мимо, как в этой жизни, где их дороги не пересеклись? Артамон остро переживал наступившее одиночество, и Лука, осиротевший при живой матери, не мог разделить его чувств. Глядя на Артамона, он с кривой ухмылкой вспоминал своё детство, когда Саша Чирина делала с ним уроки, объясняя то, чего сама не понимала, а если замечала подавленные зевки и отсутствующий взгляд, давала подзатыльник или била по рукам железной линейкой; как, поймав его таскающим мелочь из её карманов, она ставила в угол на горох, где он проводил вечера, слушая сочувственное молчание Ираклия Голубень, лишённого голоса в вопросах его воспитания и облегчавшего его участь, украдкой подкладывая под колени тощую подушку, не понимая, что тем самым удесятеряет его мучения. Прохор не мог простить ему свидетельства своих унижений, принимая в семейных скандалах сторону матери, он правильно рассчитал, что после ухода Ираклия, оставшись с матерью один на один, ему будет с ней легче справиться. Из своего печального опыта он вынес другие представления о материнской любви, и не мог понять Артамона, однако, натыкаясь на грустный взгляд, которым его провожали, когда он проходил мимо дуба, считал необходимым оказать поддержку, полагая, что она входит в обязанности домоуправа. Достав раз из кармана яблоко, он вытер его о штаны и, с треском разломив пополам, угостил Артамона.
− Ну, давай, выкладывай, − без обиняков начал он, усаживаясь рядом.
От его прямоты у Артамона зачесалась лопатка, и он, как кошка, потерся спиной о дуб.
− О чём ты? — ещё храбрился он. — Я тебя не понимаю.
− Брось, я же вижу, как тебя плющит, — осадил его Лука. − Выскажись, станет легче.
− Не знаю, как жить… − промямлил Артамон, с особенной силой ощутив в груди тянущую пустоту. — И не знаю, зачем…
Лука расхохотался.
− Э, брат, и всё? А ты думаешь, кто-нибудь знает? Живут, как живот велит, клетки делятся, а мы — следом. Размножаемся, стареем. Они и в могилу за собой потащат. − Но почувствовав, что от него ждут другого, на ходу перестроился. — Это пройдёт, поверь, все через такое проходят…
Артамон уставился на канал и смотрел так пристально, что в какой-то момент слился с его гранитным парапетом, различив на нём каждую выбоину.
− Знаешь, мне иногда кажется, что меня вовсе нет, − вздохнул он. — Как моей матери.
− Кому кажется? — мгновенно поймал его Лука, захлопнув капкан логики, в которую давно не верил.
Оторвавшись от блестевшего вдалеке канала, Артамон повеселел, будто просветлённый ученик, взглянув на учителя, и с тех пор прилепился к Луке, повсюду бегая за ним, как собачонка, открывая с носка дверь в его дворницкую. Иногда Лука был занят, разговаривая с собой, оживлённо жестикулировал, будто доказывал что-то незримому собеседнику, и тогда Артамон, не видевший призраков, приходивших в дворницкую наравне с живыми, тихонько прикрывал дверь. Но пройдет время, и Артамон Кульчий, научившись самостоятельно сопротивляться безумию, будет морочить голову другим такими же словесными кунштюками, каждый раз со смущённой улыбкой вспоминая, как отрезвляюще подействовал на него риторический прием, применённый домоуправом.
Слова, слова. Кочующие по эпохам, как тарелки, наполняемые разным содержанием, затёртые, захватанные, они презирались Лукой; наделённый видением иного рода, он знал, что бытие течёт вне причин и следствий, точно так же, как мысль − вне слов, от рождения чувствуя их пустоту, он умело перебирал их скорлупки, в которые не вкладывал души, и, точно напёрсточник, всегда оказывался в выигрыше, слывя красноречивым и убедительным.
Рядом с закусочной поставили туалеты, но из-за очередей, особенно к вечеру, мочились где попало, справляли нужду в кустах, гадили, как когда-то, во времена Академика, серые голуби, а мусорные баки были до отказа забиты обрывками газет, грязными салфетками, объедками, пластиковыми бутылками, пьяными разговорами, обещаниями и тоской. В часы работы закусочной во дворе шумели, веселились, галдели, отрывисто гудели клаксоны подъезжавших машин, от которых включалась сигнализация припаркованных, а ночью от всей дневной суматохи оставались лишь злобное урчание и блестевшие глаза рывшихся в мусоре тощих кошек.
В трёх комнатах на первом этаже пищевая компания из благотворительности устроила пансион для умственно отсталых. «Жаль, инвалид из третьего подъезда не дожил», − осмотрел его Лука. Он пришёл как домоуправ, обязанный согласовать с жильцами открытие в доме приюта, но незаметно для себя стал проводить всё больше времени в его стенах, среди его бесхитростных обитателей, оставшихся детьми. Там он отдыхал, раскладывая вместе с ними кубики и раскрашивая контурные картинки, вспоминал себя ребёнком, беспомощно и доверчиво глядевшим из-за материнской юбки, улыбался, снова становясь Прохором. Он горстями раздавал леденцы, улучив момент, когда дремала на стуле Юлия Августовна Зима, дряхлая воспитательница, которую от старости не спасали даже фиалковые духи. «Тё-тя заругает», − испуганно озираясь, разбирали конфеты, пряча за щеку, и Прохор-Лука думал, что ангелы в раю, наверняка, лишены привычного нам житейского разума. «Э-э, дя-дя, − протягивали ему разрисованный пакет, набитый тряпьем, − вот кукла…» И он баюкал её на руках, тихо напевая: «Чтобы любить тебя, не надо любить себя, чтобы любить себя, не надо любить тебя», — а потом шёл к Порфирию Кляцу, стучал кулаком, требуя документы на использование жилых помещений. Кляц щурился, вставал из-за стола и без единого слова находил с ним общий язык, опуская в карман мятые купюры. Лука брал деньги, которые ему были не нужны, чтобы напомнить о своих правах, а подачки Кляца анонимно переводил в пансион для умственно отсталых.