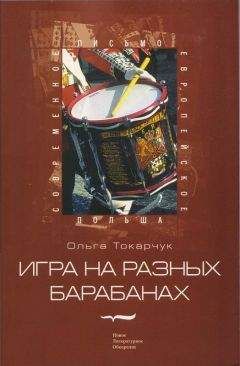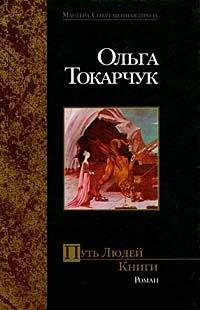Веди свой плуг по костям мертвецов - Токарчук Ольга
– Особыми? Тем более нельзя, чтобы они слушали такие вещи. Ты сама слышала.
Девушка перевела дыхание и заговорила, не глядя на меня.
– Пани Душейко, вы не правы. Существуют определенные нормы, традиции, и мы должны с ними считаться. Нельзя вот так сразу все отвергать… – Теперь было видно, как директриса подыскивает слова, и я уже заранее знала, чтó она скажет.
– Я вовсе не хочу, чтобы мы, как ты говоришь, все отвергали. Я только против того, чтобы призывать детей к злу и учить их ханжеству. Превознесение убийства является злом. Все просто. Не более того.
Директриса закрыла лицо руками и тихо сказала:
– Я вынуждена расторгнуть наш договор. Вы, наверное, уже догадались. Будет лучше всего, если вы постараетесь получить больничный на это полугодие – это самое большее, что мы можем для вас сделать. Вы болели и снова возьмете больничный. Поймите, я не могу поступить иначе.
– А английский? Кто будет учить детей английскому?
Девушка покраснела:
– Наша учительница религии закончила лингвистический колледж. – Директриса посмотрела на меня как-то странно. – И потом, знаете… – Она заколебалась. – До меня и раньше доходили слухи о ваших необычных методах обучения. Говорят, вы зажигаете с детьми какие-то свечи, бенгальские огни, потом другие учителя жалуются, что в классе воняет дымом. Родители опасаются, что это какая-то чертовщина, сатанизм. Ну конечно, они люди простые… И еще вы угощаете детей какими-то диковинными сладостями. Конфетами из дуриана. Что это такое? А вдруг какой-нибудь ребенок отравится, кто будет за это отвечать? Вы не подумали?
Эти ее аргументы меня совершенно добили. Я всегда старалась чем-нибудь удивить детей, максимально задействовать их потенциал. Теперь я почувствовала, как силы окончательно покидают меня. Говорить расхотелось. Я тяжело поднялась и молча вышла. Краем глаза видела, как директриса нервно перекладывает бумаги на столе и как у нее дрожат руки. Бедная женщина.
В Самурае у меня лежало все, что нужно. На моей стороне были Сумерки, которые опускались на глазах. Они всегда помогают таким, как я.
Горчичный суп. Варится он быстро и усилий особых не требует, так что я успела. Сначала на сковородке нужно растопить немного масла и добавить муку, как будто вы собираетесь приготовить соус бешамель. Мука прекрасно впитывает растопленное масло, поглощает его, пухнет от удовольствия, теперь нужно залить ее молоком, разбавленным водой, пятьдесят на пятьдесят. К сожалению, на этом наши игры с мукой и маслом заканчиваются, постепенно образуется суп. Светлую, еще невинную жидкость нужно посолить, поперчить, добавить тмин, довести до кипения и снять с огня. И лишь тогда добавить три разновидности горчицы: зернистую дижонскую, нежную и воздушную сарептскую, или кремскую, и горчичный порошок. Важно, чтобы Горчица не вскипела, иначе суп потеряет вкус и сделается горьким. Подавать следует с гренками, и я знаю, что Дэн очень любит это блюдо.
Они приехали втроем, и я гадала, какой меня ждет Сюрприз, даже задумалась, не день рождения ли у меня, случайно, – такой серьезный был у них вид. Дэн и Благая Весть – в красивых зимних куртках, одинаковых, и я подумала, что они, в сущности, могли бы быть парой. Оба такие ранимые и красивые, хрупкие подснежники, выросшие у самой тропы. Матоха, отчего-то мрачный, долго топтался на месте и все потирал ладони. Он принес бутылку наливки из черноплодной рябины собственного изготовления. Мне никогда не нравился алкоголь, который делал Матоха, на мой вкус, он жалел сахара, и его ликеры всегда отдавали горечью.
Они уже сели за стол, я дожаривала гренки и взглянула на них – всех вместе, возможно в последний раз. Именно это пришло мне в голову – что пора прощаться. И я вдруг взглянула на нашу четверку совсем с иной перспективы, словно нас что-то связывает, словно мы – члены одной семьи. Я поняла, что мы из тех, кого мир полагает бесполезными. Мы не делаем ничего существенного, не генерируем значимые идеи, не создаем нужные вещи и продукты, не обрабатываем землю, не способствуем росту экономики. Мы даже не расплодились, как положено, разве что Матоха, у которого есть сын, пусть даже Черное Пальто. Не принесли миру никакой пользы. Ничего не изобрели. Мы не обладаем властью, у нас ничего нет, кроме наших маленьких хозяйств. Мы выполняем свою работу, но в глазах окружающих она абсолютно ничего не стоит. Исчезни мы, ничего, в сущности, не изменилось бы. Никто бы не заметил.
Сквозь тишину этого вечера и гудение огня в плите я услышала завывание сирен – где-то внизу, в деревне, его принес резкий порыв ветра. Я гадала, обратили ли они внимание на этот зловещий звук. Но они разговаривали вполголоса, склонившись друг к другу, спокойно.
Когда я разливала горчичный суп по мискам, меня охватило волнение, настолько сильное, что из глаз снова потекли слезы. К счастью, никто этого не заметил, все были заняты разговором. Я отошла с кастрюлей к столику у окна и оттуда краем глаза наблюдала за ними. Видела землисто-бледное лицо Матохи, его аккуратно зачесанные набок волосы и свежевыбритые щеки. Видела профиль Благой Вести, красивую линию носа и шеи, цветной платок на голове, спину Дэна, узкую, чуть сутулую, в вязаном свитере. Что с ними станет, как они будут жить, эти дети…
И как буду жить я сама. Я ведь точно такая же. Мой жизненный опыт не годится для построения чего бы то ни было ни теперь, ни потом, никогда.
Но зачем нам приносить пользу, кому? Кто разделил мир на нужных и ненужных, по какому праву? Разве чертополох не имеет права на жизнь, или Мышь, уничтожающая зерно в амбарах, Пчелы и Трутни, сорняки и розы? Чей ум взял на себя смелость так безапелляционно судить, кто лучше, а кто хуже? Большое дерево, кривое и дуплистое, простояло сотни лет и не было срублено, поскольку из него все равно ничего не удалось бы смастерить. Этот пример должен вдохновлять подобных нам. Все видят выгоду от полезного, но никто не видит пользы от никчемного.
– Там внизу, над деревней, зарево, – сказал Матоха, остановившись у окна. – Что-то горит.
– Садитесь. Сейчас будут гренки, – пригласила я, убедившись, что глаза у меня сухие. Но усадить их за стол не удалось. Все столпились у окна молча. Потом посмотрели на меня. Дэн – с подлинным страданием, Матоха – с недоверием, а Благая Весть – исподлобья, с грустью, которая терзала мне сердце.
В этот момент Дэну позвонили.
– Не отвечай, – воскликнула я. – Здесь чешская сеть, разоришься потом платить.
– Я не могу не ответить, я пока еще работаю в полиции, – ответил Дэн и сказал в трубку: – Алло?
Мы смотрели на него выжидающе. Горчичный суп остывал.
– Выезжаю, – сказал Дэн, а меня охватила паника – все пропало, сейчас они уйдут навсегда.
– Горит плебания. Ксендз Шелест погиб, – проговорил Дэн, но, вместо того чтобы уйти, сел за стол и начал машинально хлебать суп.
У меня Меркурий в ретрограде, поэтому мне легче изъясняться письменно, чем говорить. Я могла бы стать неплохой писательницей. Но при этом у меня есть проблемы с выражением своих чувств и мотиваций. Мне нужно им рассказать, но я не могу. Как воплотить все это в слова? Наши отношения требовали, чтобы я объяснила им, чтó сделала, прежде чем они узнают об этом от других. Но первым заговорил Дэн.
– Мы знаем, что это ты, – сказал он. – Поэтому и пришли сейчас. Чтобы как-то решить эту проблему.
– Мы собирались тебя увезти, – добавил Матоха замогильным тоном.
– Но мы не предполагали, что ты сделаешь это снова. Это ведь ты сделала? – Дэн отодвинул недоеденный суп.
– Да, – ответила я.
Поставила кастрюлю на плиту и сняла фартук. Я стояла перед ними, готовая к Суду.
– Мы догадались, когда узнали, как погиб Председатель, – тихо сказал Дэн. – Эти жуки… Только ты могла это сделать. Или Борос, но Борос уже давно уехал. Тогда я позвонил ему, чтобы узнать. Он не поверил, но признался, что у него действительно пропали феромоны, очень ценные, необъяснимым образом. Борос находился у себя в пуще, у него алиби. Я долго думал, зачем, что у тебя общего с таким человеком, как Председатель, но потом догадался, что это может быть как-то связано с Девочками. В конце концов, ты не скрывала, что они охотились, верно? Все эти люди. Теперь я понимаю, что охотником был также и ксендз Шелест.