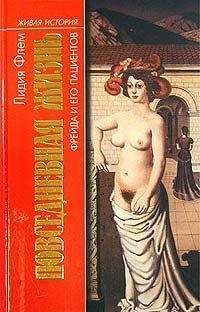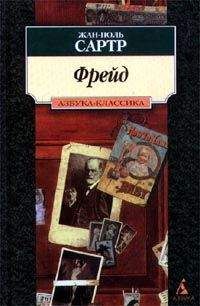Евгений Богданов - Високосный год: Повести
Новинцев с уважением поглядывал на директора, улыбаясь чуть-чуть уголками губ. «Научился требовать Лисицын, — подумал он. — Далеко пойдет. Молодец». А вслух сказал:
— Послушай, Степан Артемьевич, а как же эта поездка на Канарские острова?
— Она накрылась, — ответил Лисицын. — Жена беременна. Куда ее повезешь в таком положении?
— Да, жаль, не получилось у тебя. Когда же теперь пойдешь в отпуск? Отдохнуть непременно надо.
— Вот выпадет снег, устоится зима, возьму отпуск и буду ходить в лес на лыжах. Куплю ружье, стану охотиться на зайцев.
— Нужна будет гончая, — сказал Новинцев. — Собаки-то у тебя нет! И у меня тоже, а то бы одолжил.
— Купим и собаку. Вот, кажется, у Бунина есть такие строки:
Что ж, камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить…
— Пить не стоит, — рассмеялся Новинцев. — А собаку можно.
Теперь в воображении Степана Артемьевича скалистые острова южной Атлантики с неведомым Санта-Крусом уступили место первой пороше и чернотропу. Он видел себя в охотничьих доспехах, с ружьем в руках в лесу, схваченном сизым дымком первого инея. За ним послушно и легко, потряхивая висячими ушами, бежал поджарый и пегий русский гончак. Охотничья тропа казалась более реальной, чем плавание по теплому океану в дальние страны… Степан Артемьевич смотрел вперед на узкую ленту проселка. Новинцев вернул его с неба на землю:
— В райкоме нам вчера сказали, что капиталовложения в сельское хозяйство резко увеличиваются и скоро будет создано районное агропромышленное объединение. Оно будет воротить всеми делами. И вообще, предстоит крупная перестройка всего, связанного с землей. Так что и в наших планах, возможно, придется тоже кое-что пересмотреть.
— Это не исключено, — сказал Лисицын озабоченно.
Газик мчался вперед, и ветер тормошил старенький брезентовый тент, который все пузырился и хлопал. Лисицын глянул в оконце. Слева на обширном поле уже проклюнулись ростки озими. В низинках она была гуще и зеленее, на взгорках — реже. В небе неторопливо плыли осенние тяжеловатые облака. Впереди в просвет меж ними вырвались опять солнечные лучи и ударили прямо в ветровое стекло. Шофер наклонил голову, затеняя глаза козырьком кепки, и прибавил скорость.
Глава девятая
Осенние ночи тягучи и горьковаты, как дым от сырой осины в костре, и Еремей Кузьмич с трудом дожидался зыбкого, тусклого рассвета. Он подолгу глядел в темноту горницы, на прямоугольники окон с черными переплетами рам. В углу резво тикали недавно купленные, вошедшие нынче в моду часы с кукушкой, но кукушку Чикин «отключил», чтобы не шумела ночами.
Мучила бессонница, в голове толклись разные мысли и воспоминания о прежнем, о молодых годах. Все прошло, остались только память и дети. Они выучились, уехали в города. Старший сын Сергей живет в Мурманске, плавает механиком на тральщике, младший — Петр — сотрудник одного из проектных институтов в Ленинграде, дочь Екатерина — в Одессе, вышла замуж, родила ему двух внуков.
Еремей Кузьмич был домоседом и ездил в гости к детям очень редко. Известное дело: приедет старик из деревни погостить — и все ему будет не по душе. Квартира тесна, уставлена мебелью и книгами, воздуха в ней мало. Водопроводная вода пахнет хлоркой, — то ли дело из родника или колодца! За окнами шумят, гремят трамваи и машины, выхлопные газы лезут в форточку. Снохи вежливо-холодны. От их подчеркнутой вежливости и косых взглядов, брошенных мимоходом, на душе становится неловко. Небось думают: «Скоро ли уберется старый в свою деревеньку, торчит тут как филин».
К праздникам дети шлют стандартные поздравительные открытки с цветочками, иногда и денежные переводы. Конечно, лучше, если бы сын или дочь были рядом, покоили старость, да где там! Выросли птенцы, оперились, легли на крыло и улетели искать свое счастье. И сетовать на судьбу не приходится: сколько стариков и старух доживают свой век в одиночестве по российским селам.
Ночью, почти до рассвета, за окнами шумел-плескался дождь. Под его монотонный шумок Еремей Кузьмич все же немного вздремнул и проснулся, услышав на кухне звон чайкой посуды да тихое, умиротворенное шипение самовара. Встал с тяжелой головой, в плохом настроении и поворчал на жену:
— Ты бы поменьше гремела утром. Спать не даешь!
Жена глянула на него настороженно и виновато, молча поставила перед ним тарелку с манной кашей и стакан чая.
В стакане рыбкой плотвичкой тускловато блестела старинная ложечка с витым черенком, единственная серебряная вещица в доме. У жены — покорное выражение лица, но в глазах недовольство. Хотя и привыкла к воркотне супруга, а все же надоело слушать. Она пила чай из большой старинной чашки дулевского фарфора, старательно скрывая раздражение.
Избу построил отец в тридцатые годы. Он в гражданскую войну брал Перекоп, был тяжело ранен в сабельном бою. Белоказак располосовал ему шашкой плечо, пересек ключицу. Ключица в лазарете срослась, но рука повисла и почти не действовала. Отец вернулся домой в длинной кавалерийской шинели с высокой шлицей, со шпорами на разбитых в прах сапогах и с орденом. Дома во время коллективизации его избрали председателем колхоза на Горке. Деревня тогда была людная, веселая, жили в ней лодочные мастера, шили речные и морские карбаса для подгородних архангельских рыбаков. Но карбасное ремесло для горкских мужиков было лишь подспорьем. Главным являлось земледелие: выращивали озимую рожь, ячмень, горох, овес, держали много домашней живности.
Председатель был напорист и одержим идеей: задумал построить на речке Лайме небольшую гидроэлектростанцию, выписал из города инженера, сколотил бригаду мастеров. За лето соорудили плотину и здание станции, привезли и установили турбину с электромотором и протянули провода. К осени горкские крестьяне ужинали с лампочкой Ильича, и всем в округе это было в диковинку и на зависть.
Станция работала долго, пока не износилось оборудование. Заменить его не пришлось — началась война с фашистской Германией, и деревня опять засветила керосиновые лампы. Плотину снесло вешним половодьем, в месте запруды осталась каменная грядка. Отец на втором году войны умер. Еремей Кузьмич ушел на фронт, а после вернулся домой и женился.
Позавтракав, Чикин тепло оделся и вышел посидеть на своей скамье над обрывом. Скамья была влажной и холодной, и он подостлал под себя кусок старой клеенки.
По привычке окинул взглядом окрестность. Пейзаж грустноват. Опять в разрывы туч изредка прорывалось солнце, высвечивало заливной луг на берегу Северной Двины. Отава на нем поблекла, зажелтилась.
…Вот он, Борок, весь перед ним, как на блюдечке. Дома глядят в мир чуть-чуть задумчиво окнами с наличниками, с белыми тюлевыми или цветными занавесками. На подоконниках — кактусы с пышными алыми бутонами, герань и другие комнатные цветы неведомых Чикину названий. Перед избами, в палисадниках — обнаженные черемухи, рябинки, кусты акации, сирени. Зеленый наряд с них смахнула осень, вороха пожухлых листьев устилают пожелтевшую траву. На клумбах и грядках пятнышками — редкие, припозднившиеся садовые цветы. Они все еще сопротивляются натиску поздней осени.
Сколько в этих избах людей? Не много, семьи небольшие. У каждого свой характер и нрав, свои заботы, радости, печали. Трудовой деревенский люд, вечно спешащий куда-то по будням, веселый и шумный в праздники.
Издалека ветер донес шум тракторного дизеля. Сколько помнит Чикин, всегда в пору полевых работ ветер доносил такой шум, как неотъемлемый признак деревни. Рано утром или поздно вечером, в вёдро и ненастье, в майский полдень, душный июльский вечер, в пору осенних заморозков всегда где-нибудь гудел трактор: сначала «фордзон», потом ХТЗ, могучий «Сталинец», ЧТЗ, а теперь современный мощнейший дизель… Грохот его двигателя звучал в ушах Чикина музыкой, действовал на него благотворно, успокаивая: раз трактор пашет, значит, все в порядке, будет хлеб! И тот хлеб, что соберут по осени, творение ума и рук человека, надо принимать не иначе как великое благо, щедрый дар и необыкновенное чудо. А творит это чудо самый обыкновенный парень или зрелый муж в замасленной робе, с загрубелыми от мозолей и ветров руками, с зорким взглядом из-под козырька кепки, с папироской в уголке белозубого красивого рта… И сидит он на сиденье своего трактора как добрый, всегда бодрствующий волшебник. За его крепкой спиной потом под посверки июльских зарниц шумной золотой стеной поднимутся и спелая рожь, и усатый ячмень, и низкорослый шептун овес…
Так было всегда, так будет или, по крайней мере, должно быть всегда.
Чикин глядел отсюда, с высотки, на избы, и к сердцу подкрадывалась грусть, такая, что словами не описать. Она перехватывала дыхание, застилала влажным туманцем стариковские поблекшие глаза: «Скоро, видно, мне на погост… А хотелось бы еще пожить да поглядеть на избы, на людей, на это раздолье по Двине, на луга, поля, леса, на мелкие волны речушки Лаймы, баюкавшей мое детство…»