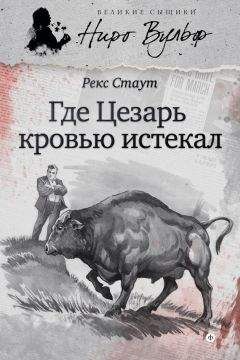Робер Сабатье - Шведские спички
Элоди отпила глоток вина и продолжила вслед за мужем:
— Мы бы не прочь оставить тебя, но парень ты не из легких. Бродяга, лодырь, да еще и кривляка. Нет, ты не легкий парень, а мы с Жаном молоды. У дяди ты сможешь учиться, перестанешь шляться по улицам, будешь играть вместе с их сыновьями. У них ведь даже прислуга есть. Как бы ты сам поступил на нашем месте?
Оливье низко склонил голову, слушал и смотрел на пузырьки, поднимавшиеся со дна его бокала. Все эти слова, хоть говорились они с волнением и явной неохотой, причиняли ему боль. Ему в таких случаях хотелось плакать, просить прощения, и в то же время он не мог поверить, что это страшное все же произойдет. Наверное, это одни слова… Одно за другим, просто так, а завтра все будет иначе. Может быть, Жану удастся найти работу. Он ведь такой хороший печатник… Взрослые всегда много говорят, а потом меняют свое мнение.
Почему он сейчас подумал о бассейне на улице Амиро, о его голубой воде, несущей забвение? Он как бы сам превратился в рыбку, плавал в этой прозрачной ясности, и не было у него никаких забот, только ощущение нежных касаний воды, он скользил в ней, скользил… Мальчик поднял голову и столкнулся с суровыми глазами родных. Спросил их:
— А если бы я был рыбкой?
Они с возмущением покачали головой: что за нелепый дерзкий вопрос! Ну и парень, с луны он, что ли, свалился? Жан строго сказал:
— Иди, поиграй на улице. Всем этим выходкам скоро будет конец!
Оливье не понял. Он разглядывал этикетку, наклеенную на бутылку. На ней были изображены шпалеры виноградных лоз, а за ними большой дом. Прошло несколько минут… Жан раздавил сигарету в рекламной пепельнице, зажег вторую. Он несколько успокоился после того, как сказал все. Налил еще бокал вина, но Элоди шепнула: «Не стоит, а?» Завтра Жан пойдет в типографию. Постарается вести себя сдержанно; если не будет работы для мастера, он согласится на любую — мыть и смазывать машины, подметать, упаковывать, развозить печатные изделия. Бог с ним, с этим достоинством квалифицированного рабочего! У него жена, он должен заботиться об этом мальчишке — это и обезьяна поймет.
Он обнял Элоди и поцеловал ее. От волос жены приятно пахло лавандой. Элоди подняла голову. Их потянуло друг к другу. И Жан произнес:
— Ну, улыбнись, Оливье, и иди играть. Все наладится, вот увидишь. А кроме того, ведь мы никуда не денемся!
Ребенку не так уж хотелось играть, но он понял, что должен их оставить наедине: видать, им не терпится заняться той самой штукой. И Оливье бесшумно скользнул за дверь.
*Па улице он увидел «двух дам», в их строгих костюмах, аккуратных галстучках, с приглаженными помадой «Бекерфикс» волосами; они шли под ручку к Монпарнасу, в те самые заведения с джаз-оркестрами, где они могли встретить таких же, как они сами: в «Колледж Ин», «Ужасные ребята», «Босфор», «Борджиа», «Жокей» и «Викинги». Там они потанцуют темпераментное, неистовое танго, посмотрят на иностранок, плотно прижимающихся друг к другу, а потом отправятся туда, где бывает более знатная публика: в «Гранд Экар», или на экзотический негритянский бал в «Белом Шаре», или в «Джунгли», где принят колониальный стиль.
Ребенок слышал обо всем этом из разговора между Красавчиком Маком и Мадо, которые, по-видимому, тоже неплохо знали злачные места. Этот Монпарнас казался Оливье весьма далеким, а отрады его — какими-то непонятными, вроде тех, что показывались в фильме «Однажды ночью, под Рождество», который он видел в кино «Барбес».
На углу улицы Кюстин Оливье заметил Мадо, садящуюся в такси. Куда она едет? Небось, в такие места, куда детей не пускают. Когда машина исчезла за поворотом, Оливье стало грустно.
У школьной стены, в том самом месте, где обычно по окончании уроков в четыре часа дня ребята играли в стеклянные шарики, пристроилась парочка цыган, смуглолицых, с угольно-черными глазами. У мужчины были длинные черные усы, у женщины — косы и широкая цыганская юбка до пят. Они сидели на стульях под газовым фонарем, напоминая аляповатую картину плохого художника. Если б не суетливые жесты, то, пожалуй, нельзя было бы поверить, что это живые люди. Немного дальше стояла торговка цветами в плиссированной юбке, она поливала водой из ржавой консервной банки сильно пахнущие фиалки. Какой-то старик толкал перед собой повозку, которая прежде служила детской коляской и где, наверно, недавно спал ребенок, а теперь этот человек собирал в нее лопаткой конский навоз с шоссе, чтоб удобрить им свой жалкий садик. Краснорожий бродяга натыкал окурки на острый конец палки, ожидая, пока закончится киносеанс, чтобы просить милостыню у зрителей; потом, уже на рассвете, он будет рыться в мусорных баках. Тут можно было увидеть и компанию молодых парней в кепках, кидавшихся к одиноко стоящим девчонкам, чтоб с ними побалагурить.
Оливье бежал мимо, как быстрый белый огонек. Его зеленые глаза подернула дымка тоски — и так будет теперь всегда, всю его жизнь, во время одиноких прогулок по ночному городу. Точно колоски в поле, он собирал по пути впечатления, питавшие его фантазию, и подавлял в себе неожиданные, странные желания — высказаться, излить кому-нибудь душу или же бегать, петь, играть, как в театре, читать стихи, с кем-то драться либо, напротив, прийти кому-то на помощь, и он не знал, как освободиться от этого бурного, незнакомого ему доселе потока, который переполнял его через край, — он просто пьянел от чувств, запахов, красок, движений. На самой высшей точке восторга холодные слезы катились у него по щекам, а от того, что он плакал вот так, без причины, он казался себе порой сумасшедшим.
Наконец он добрался до кафе «Два каштана», до того места, где по воскресеньям после полудня останавливались автобусы, ходившие на бега, и выскакивал шофер в белой с голубыми отворотами куртке, крича в рупор: Лонгшан, Лонгшан, бега! — пока люди не заполняли весь автобус, в то время как те, что уже сидели там с программой бегов в руках, проявляли сильное нетерпение, опасаясь опоздать на первый забег. Площадь Дельта была так ярко освещена, что Оливье показалось, будто он попал на сценическую площадку из полутемного зрительного зала. Бульвар Рошешуар весь так и струился цветными огнями реклам, прерывистых, пляшущих, и лишь кое-где этот нестерпимый блеск становился чуть мягче от зеленой листвы деревьев. Проезжающие автомобили излучали призрачный свет, их фары казались живыми, точно глаза.
Оливье остановился: дальше в своих ночных странствованиях он обычно не заходил. Но на этот раз решился и вошел в неведомый мир, как путешественник в какой-нибудь девственный лес. После площади Дельта, на которой метро втягивало людской поток в подземную пучину, бульвар обретал ширину. Он превращался в реку, в Ганг, так и кишащий толпами, огромный, загадочный, со своими обрядами, с ночными клубами вместо храмов, приставшими к его берегам, как полные тайн шлюпки, шаланды или пироги, с автомобилями, которые с жестокостью черных акул расчищали себе дорогу гудками, а спасительными островками здесь были разве что фонтаны, газетные киоски и общественные уборные, где то и дело хлопали двери.
Оливье был оглушен, ослеплен разгульем звуков и блеска, толпой, которую так сильно преобразила ночь. Он пробирался вдоль баров, сверкающих своими никелевыми стойками, мимо щегольских ночных кабаре с вкрадчивыми зазывалами и развешанными у входа фотографиями голых девиц, мимо ресторанов с поднятыми над этим людским морем террасами, мимо кинематографов, ночных клубов и сверкающих электрическими огнями театриков, где в стеклянных будках восседали щедро размалеванные кассирши.