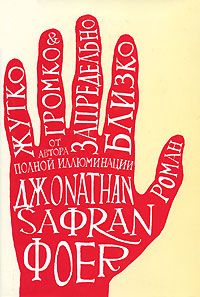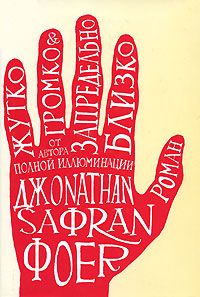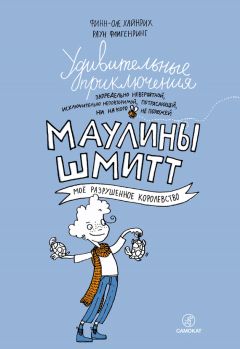Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«Ты почему-то покраснела…»
Ты почему-то покраснела,
а я черемухи нарвал,
ты целоваться не умела,
но я тебя поцеловал.
Ребята в сквере водку пили,
играли в свару и буру,
крутили Токарева Вилли
и матерились на ветру.
Такой покой в волнах эфира,
ну, а пока не льется кровь,
нет ничего уместней, Ира,
чем настоящая любовь.
«Я помню всё, хоть многое забыл…»
Я помню всё, хоть многое забыл —
разболтанную школьную ватагу.
Мы к Первомаю замутили брагу,
я из канистры первым пригубил.
Я помню час, когда ногами нас
за хамство избивали демонстранты,
и музыку, и розовые банты.
Но раньше было лучше, чем сейчас.
По-доброму, с улыбкой, как во сне:
и чудом не потухла папироска,
и мы лежим на площади Свердловска,
где памятник поставят только мне.
Романс
Саше Верникову[67]
Мотив неволи и тоски —
откуда это? Осень, что ли?
Звучит и давит на виски
мотив тоски, мотив неволи.
Всегда тоскует человек,
но иногда тоскует очень,
как будто он тагильский зек,
как, ивдельский разнорабочий.
В осенний вечер, проглотив
стакан плохого алкоголя,
сидит и слушает мотив,
мотив тоски, мотив неволи.
Мотив умолкнет, схлынет мрак,
как бы конкретно ни мутило.
Но надо, чтобы на крайняк
у человека что-то было.
Есть у меня дружок Вано
и адресок его жиганский,
ширяться дурью, пить вино
в поселок покачу цыганский.
В реальный табор пить вино —
Конечно, это театрально,
и театрально, и смешно,
но упоительно-печально.
Конечно же, давным-давно,
давным-давно не те цыганы.
Я представляю все равно
гитары, песни и туманы.
И от подобных перспектив
на случай абсолютной боли
не слишком тягостен мотив,
мотив тоски, мотив неволи.
«Музыка жила во мне…»
Музыка жила во мне,
никогда не умолкала,
но особенно во сне
эта музыка играла.
Словно маленький скрипач,
скрипача того навроде,
что играет, неудач —
ник, в подземном переходе.
В переходе я иду —
руки в брюки, кепка в клетку —
и бросаю на ходу
этой музыке монетку.
Эта музыка в душе
заиграла много позже —
до нее была уже
музыка, играла тоже.
Словно спившийся трубач
похоронного набора,
что шагает мимо прач —
чечной, гаража, забора.
На гараж, молокосос,
я залез, сижу, свалиться
не боюсь, в футболке «КРОСС»,
привезенной из столицы.
«Надиктуй мне стихи о любви…»
Надиктуй мне стихи о любви,
хоть немного душой покриви,
мое сердце холодное, злое
неожиданной строчкой взорви.
Расскажи мне простые слова,
чтобы кругом пошла голова.
В мокром парке башками седыми,
улыбаясь, качает братва.
Удивляются: сколь тебе лет?
Ты, братишка, в натуре поэт.
Это все приключилось с тобою,
и цены твоей повести нет.
Улыбаюсь, уделав стакан
за удачу, и прячу в карман,
пожимаю рабочие руки,
уплываю, качаясь в туман.
Расставляю все точки на «ё».
Мне в аду полыхать за враньё,
но в раю уготовано место
вам — за веру в призванье моё.
«Я работал на драге в поселке Кытлым…»
Роме Тягунову
Я работал на драге в поселке Кытлым,
о чем позже скажу в изумительной прозе,
корешился с ушедшим в народ мафиози,
любовался с буфетчицей небом ночным.
Там тельняшку такую себе я купил,
оборзел, прокурил самокрутками пальцы.
А еще я ходил по субботам на танцы
и со всеми на равных стройбатовцев бил.
Да, наверное, все это — дым без огня
и актерство: слоняться, дышать перегаром.
Но кого ты обманешь! А значит, недаром
в приисковом поселке любили меня.
«А иногда отец мне говорил…»
А иногда отец мне говорил,
что видит про утиную охоту
сны с продолженьем: лодка и двустволка.
И озеро, где каждый островок
ему знаком. Он говорил: не видел
я озера такого наяву
прозрачного, какая там охота!
представь себе… А впрочем, что ты знаешь
про наши про охотничьи дела!
Скучая, я вставал из-за стола
и шел читать какого-нибудь Кафку,
жалеть себя и сочинять стихи
под Бродского, о том, что человек,
конечно, одиночество в квадрате,
нет, в кубе. Или нехотя звонил
замужней дуре, любящей стихи
под Бродского, а заодно меня —
какой-то экзотической любовью.
Прощай, любовь! Прошло десятилетье.
Ты подурнела, я похорошел,
и снов моих ты больше не хозяйка.
Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучела расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.
Что, повторюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.
«Прежде чем на тракторе разбиться…»
Прежде чем на тракторе разбиться,
застрелиться, утонуть в реке,
приходил лесник опохмелиться,
приносил мне вишни в кулаке.
С рюмкой спирта мама выходила,
менее красива, чем во сне.
Снова уходила, вишню мыла
и на блюдце приносила мне.
Потому что все меня любили,
дерева молчали до утра.
«Девочке медведя подарили», —
перед сном читала мне сестра.
Мальчику полнеба подарили,
сумрак елей, золото берез.
На заре гагару подстрелили.
И лесник три вишенки принес.
Было много утреннего света,
с крыши в руки падала вода,
это было осенью, а лето
я не вспоминаю никогда.
«Ордена и аксельбанты…»
Ордена и аксельбанты
в красном бархате лежат,
и бухие музыканты
в трубы мятые трубят.
В трубы мятые трубили,
отставного хоронили
адмирала на заре,
все рыдали во дворе.
И на похороны эти
любовался сам не свой
местный даун, дурень Петя,
восхищенный и немой.
Он поднес ладонь к виску.
Он кривил улыбкой губы.
Он смотрел на эти трубы,
слушал эту музыку.
А когда он умер тоже,
не играло ни хрена,
тишина, помилуй, Боже,
плохо, если тишина.
Кабы был постарше я,
забашлял бы девкам в морге,
прикупил бы в Военторге
я военного шмотья.
Заплатил бы, попросил бы,
занял бы, уговорил
бы, с музоном бы решил бы,
Петю, бля, похоронил.
Чтение в детстве — романс