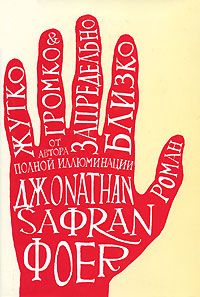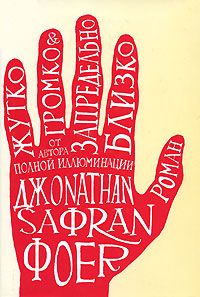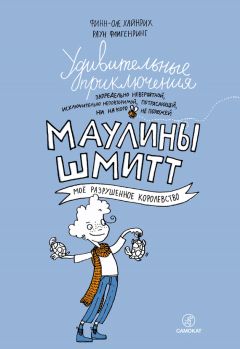Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«Только справа соседа закроют, откинется слева…»
Только справа соседа закроют, откинется слева[72]:
если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк.
А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева
в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так,
если кто обижает, скажи. Так бы жили и жили,
но однажды столкнулись — какой-то там тесть или зять
из деревни, короче, они мужика замочили.
Их поймали и не некому стало меня защищать.
Я зачем тебе это сказал, а к тому разговору,
что вчера на башке на моей ты нашла серебро —
жизнь проходит, прикинь! Дай мне денег, я двину к собору,
эти свечи поставлю, отвечу добром на добро.
«У памяти на самой кромке…»
У памяти на самой кромке
и на единственной ноге
стоит в ворованной дубленке
Василий Кончев — Гончев, «гэ»!
Он потерял протез по пьянке,
а с ним ботинок дорогой.
Пьет пиво из литровой банки,
как будто в пиве есть покой.
А я протягиваю руку:
уже хорош, давай сюда!
Я верю, мы живем по кругу,
не умираем никогда.
И остается, остается
мне ждать, дыханье затая:
вот он допьет и улыбнется.
И повторится жизнь моя.
«До пупа сорвав обноски…»
До пупа сорвав обноски,
с нар сползают фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачен у бугра —
начинаются разборки
за понятья, за наколки.
Разрываю сальный ворот:
душу мне не береди.
Профиль Слуцкого наколот
на седеющей груди!
Гимн кошке
Ты столь паршива, моя кошка,
что гимн слагать тебе не буду.
Давай, гляди в свое окошко,
пока я мою здесь посуду.
Тебя я притащил по пьянке,
была ты маленьким котенком.
И за ушами были ранки.
И я их смазывал зеленкой.
Единственное, что тревожит —
когда войду в пределы мрака,
тебе настанет крышка тоже.
И в этом что-то есть однако.
И вот от этого мне страшно.
И вот поэтому мне больно.
А остальное все — не важно.
Шестнадцать строчек. Ты довольна?
«Не забывай, не забывай игру…»
Не забывай, не забывай
игру в очко на задней парте.
Последний ряд в кинотеатре.
Ночной светящийся трамвай.
Волненье девичьей груди.
Но только близко, близко, близко
(не называй меня Бориской!)
не подходи, не подходи.
Всплывет ненужная деталь:
— Прочти-ка Одена[73], Бориска…
Обыкновенная садистка.
И сразу прошлого не жаль.
«Прошел запой, а мир не изменился…»
Прошел запой, а мир не изменился,
пришла музыка, кончились слова.
Один мотив с другим мотивом слился.
(Весьма амбициозная строфа.)
…а может быть, совсем не надо слов
для вот таких — каких таких? — ослов…
Под сине-голубыми облаками
стою и тупо развожу руками,
весь музыкою полон до краев.
«У современного героя…»
У современного героя
я на часок тебя займу,
в чужих стихах тебя сокрою
поближе к сердцу моему.
Вот: бравый маленький поручик,
на тройке ухарской лечу.
Ты, зябко кутаясь в тулупчик,
прижалась к моему плечу.
И эдаким усталым фатом,
закуривая на ветру,
я говорю: живи в двадцатом.
Я в девятнадцатом умру.
Но больно мне представить это:
невеста, в белом, на руках
у инженера-дармоеда,
а я от неба в двух шагах.
Артериальной теплой кровью
я захлебнусь под Машуком,
и медальон, что мне с любовью,
где ты ребенком… В горле ком.
На мотив Луговского
Всякий раз, гуляя по Свердловску,
я в один сворачиваю сквер,
там стоят торговые киоски
и висит тряпье из КНР.
За горою джинсового хлама
вижу я знакомые глаза.
Здравствуй, одноклассница Татьяна!
Где свиданья чистая слеза?
Азеров измучила прохлада.
В лужи осыпается листва.
Мне от сказки ничего не надо,
кроме золотого волшебства.
Надо, чтобы нас накрыла снова,
унесла зеленая волна
в море жизни, океан былого,
старых фильмов, музыки и сна.
«На фоне граненых стаканов…»
М. Окуню[74]
На фоне граненых стаканов
рубаху рвануть что есть сил…
Наколка — Георгий Иванов —
на Вашем плече, Михаил.
Вам грустно, а мне одиноко.
Нам кажут плохое кино.
Ах, Мишенька, с профилем Блока
на сердце живу я давно.
Аптека, фонарь, незнакомка —
не вытравить этот пейзаж
Гомером, двухтомником Бонка…
Пойдемте, наш выход, на пляж.
«Подались хулиганы в поэты…»
Подались хулиганы в поэты,
под сиренью сидят до утра,
сочиняют свои триолеты.
Лохмандеи пошли в мусора —
ловят шлюх по ночным переулкам,
в нулевых этажах ОВД
в зубы бьют уважаемым уркам,
и т. д., и т. п., и т. д.
Но отыщется нужное слово,
но забродит осадок на дне,
время вспять повернется, и снова
мы поставим вас к школьной стене.
«Так я понял: ты дочь моя, а не мать…»
Так я понял: ты дочь моя, а не мать,
только надо крепче тебя обнять
и взглянуть через голову за окно,
где сто лет назад, где давным-давно
сопляком шмонался я по двору
и тайком прикуривал на ветру,
окружен шпаной, но всегда один —
твой единственный, твой любимый сын.
Только надо крепче тебя обнять
и потом ладоней не отнимать
сквозь туман и дождь, через сны и сны.
Пред тобой одной я не знал вины.
И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая, смог наконец понять,
понял я: ты дочь моя, а не мать.
И настанет время потом, потом —
не на черно-белом, а на цветном
фото, не на фото, а наяву
точно так же я тебя обниму.
И исчезнут морщины у глаз, у рта,
ты ребенком станешь — о, навсегда! —
с алой лентой, вьющейся на ветру.
…Когда ты уйдешь, когда я умру.
«Я зеркало протру рукой…»
Я зеркало протру рукой
и за спиной увижу осень.
И беспокоен мой покой,
и счастье счастья не приносит.
На землю падает листва,
но долго кружится вначале.
И без толку искать слова
для торжества такой печали.
Для пьяницы-говоруна
на флейте отзвучало лето,
теперь играет тишина
для протрезвевшего поэта.
Я ближе к зеркалу шагну
и всю печаль собой закрою.
Но в эту самую мину —
ту грянет ветер за спиною.
Все зеркало заполнит сад,
лицо поэта растворится.
И листья заново взлетят,
и станут падать и кружиться.
Маленькие трагедии