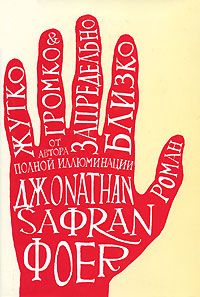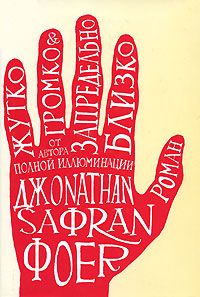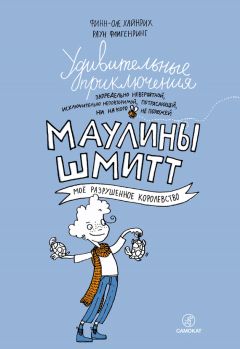Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
К Сашке
Скажи-ка, эй, ты стал поэтом?
Ну, бабам голову вскружил.
Ну, Веневитинова, это,
забыл как звали, пережил.
Ну, пару книжек тиснул сдуру.
Давай умрем по счету «три».
Сижу без курева, Сашура,
жду в вытрезвителе зари.
Казалось что? Красивым взмахом
пера начертишь вещий знак,
и из того, что было прахом,
проклюнется священный злак.
Вот так-то, Саша. Мент в окошке
маячит, заслоняя свет.
Постылый прах в моей ладошке.
А злака не было и нет.
«С плоской “Примой” в зубах…»
С плоской «Примой» в зубах: кому в бровь, кому в пах,
сквозь сиянье вгоняя во тьму.
Только я со шпаною ходил в дружбанах —
до сих пор не пойму, почему.
Я у Жени спрошу, я поеду к нему,
он влиятельным жуликом стал.
Через солнце Анталии вышел во тьму,
в небеса на «Рено» ускакал.
И ответит мне Женя, березы росток,
уронив на ладошку листок:
поменяйся тогда мы местами, браток,
ты со мною бы не был жесток.
Всем вручили по жизни, а нам — по судьбе,
словно сразу аванс и расчет.
Мы с тобой прокатились на А и на Б,
посмотрели, кто первым умрет.
Так ответит мне Женя, а я улыбнусь
и смахну с подбородка слезу.
На такси до родимых трущоб доберусь,
попрошу, чтобы ждали внизу.
Из подъезда немытого гляну на двор,
у окна на минуту замру.
Что-то слишком расширился мой кругозор,
а когда-то был равен двору.
Расплывайся в слезах и в бесформенный сплав
превращайся — любви и тоски.
Мне на плечи бросается век-волкодав,
я сжимаю от боли виски.
Приходите из тюрем, вставайте с могил,
возвращайтесь из наглой Москвы.
Я затем вас так крепко любил и любил,
чтобы заново ожили вы.
Чтобы каждый остался оправдан и чист,
чтобы ангелом сделался гад.
Под окном, как архангел, сигналит таксист.
Мне пора возвращаться назад.
«Мимо больницы, кладбища, тюрьмы…»
Мимо больницы, кладбища, тюрьмы
пойду-пойду по самому по краю.
Прикуривая, спичку поломаю
на фоне ослепительной зимы.
Вот Родина. Моя, моя, моя.
Учителя, чему вы нас учили —
вдолбили смерть, а это не вдолбили,
простейшие основы бытия.
Пройду больницу, кладбище, тюрьму,
припомню, сколько сдал металлолома.
Скажи мне, что на Родине — я дома.
На веру я слова твои приму.
Пройду еще и загляну за край,
к уступу подойду как можно ближе.
Так подойди, не мучайся, иди же,
ступай смелей, my angel, don’t you cry.
Дорогому Александру. Из села
Бобрищево — размышления об
Весьма поэт, изрядный критик, картежник, дуэлянт,
политик, тебе я отвечаю вновь: пожары вычурной Варшавы,
низкопоклонной шляхты кровь — сперва СИМВОЛЫ НАШЕЙ СЛАВЫ,
потом — убитая любовь, униженные генералы и оскверненные подвалы:
где пили шляхтичи вино, там ссали русские капралы!
Хотелось бы помягче, но, увы, не об любви кино.
О славе!
Горько и невкусно. Поручик мой, мне стало грустно,
когда с обратной стороны мне вышло лицезреть искусство.
Тем менее на мне вины, чем более подонков в штабе.
Стреляться? Почему бы нет! Он прострелил мой эполет,
стреляя первым. Я внакладе. «Борис Борисыч, пистолет
ваш будет, видимо, без пули…» — вечор мне ангелы шепнули.
Вместо того чтоб поменять, я попросту не стал стрелять.
Чтоб тупо не чихать от дыма.
Мой друг, поэзия делима, как Польша. Жесткое кино.
Но все, что мягкое, — говно.
«За стеной — дребезжанье гитары…»
За стеной — дребезжанье гитары,
льется песнь, подпевают певцу
захмелевшие здорово пары —
да и впрямь, ночь подходит к концу.
Представляю себе идиота,
оптимиста, любовника: так
отчего же не спеть, коль охота?
Вот и лупит по струнам дурак.
Эта песня, он сам ее разве
сочинил, разве слышал в кино,
ибо я ничего безобразней
этой песни не слыхивал. Но —
за окном тополиные кроны
шелестят, подпевают ему.
Лает пес. Раскричались вороны.
Воет ветер. И дальше, во тьму —
всё поют, удлиняются лица.
Побренчи же еще, побренчи.
Дребезжат самосвалы. Убийцу
повели на расстрел палачи.
Убаюкана музыкой страшной,
что ты хочешь увидеть во сне?
Ты уснула, а в комнате нашей
пустота отразилась в окне.
Смерть на цыпочках ходит за мною,
окровавленный бант теребя.
И рыдает за страшной стеною
тот, кому я оставлю тебя.
«Мои друзья не верили в меня…»
«Мои друзья не верили в меня…»
Сыны Пластполимера, Вторчермета,
у каждого из них была статья.
Я песни пел, не выставляя это
как нечто. Океан бурлил, бурлил.
Пришкандыбал татарин-участковый:
так заруби себе. Я зарубил.
Мне ведом, Боже, твой расклад херовый.
На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они запнулись с медью в черепах,
как первые солдаты перестройки.
А я остался, жалкий Арион,
на брег туманный вынесен волною.
Пою, пою, да петь мне не резон.
Шумит, шумит пучина подо мною.
«Досадно, но сколько ни лгу…»
Досадно, но сколько ни лгу,
пространство, где мы с тобой жили,
учились любить и любили,
никак сочинить не могу:
детали, фрагменты, куски,
сирень у чужого подъезда,
ржавеющее неуместно
железо у синей реки.
Вдали похоронный оркестр
(теперь почему-то их нету).
А может быть, главное — это
не время, не место, а жест,
когда я к тебе наклонюсь,
небольно сжимая ладони,
на плохо прописанном фоне,
моя неумелая грусть…
1999
Качели
Был двор, а во дворе качели
позвякивали и скрипели.
С качелей прыгали в листву,
что дворники собрать успели.
Качающиеся гурьбой
взлетали сами над собой.
Я помню запах листьев прелых
и запах неба голубой.
Последняя неделя лета.
На нас глядят Алена, Света.
Все прыгнули, а я не смог,
что очень плохо для поэта.
О, как досадно было, но
все в памяти освещено
каким-то жалостливым светом.
Живи, другого не дано!
«Много было всего, музыки было много…»
Много было всего, музыки было много,
а в кинокассах билеты были почти всегда.
В красном трамвае хулиган с недотрогой
ехали в никуда.
Музыки стало мало
и пассажиров, ибо трамвай — в депо.
Вот мы и вышли в осень из кинозала
и зашагали по
длинной аллее жизни. Оно про лето
было кино, про счастье, не про беду.
В последнем ряду пиво и сигарета.
Я никогда не сяду в первом ряду.
«Достаю из кармана упаковку дур-»
Достаю из кармана упаковку дур —
мана, из стакана пью дым за Ро —
мана, за своего дружбана, за ли —
мона-жигана пью настойку из сна
и тумана. Золотые картины: зеле —
неют долины, синих гор голубеют
вершины, свет с востока, восто —
ка, от порога до Бога пролетает
дорога полого. На поэзии русской
появляется узкий очень точный
узорец восточный, растворяется
прежний — безнадежный, небрежный.
Ах, моя твоя помнит, мой нежный!
«Мне холодно, читатель, мне темно…»