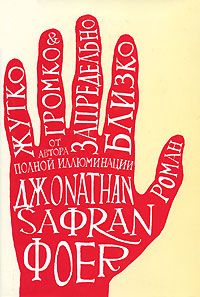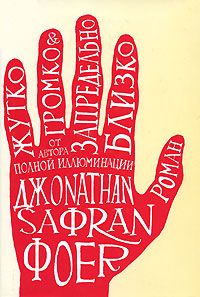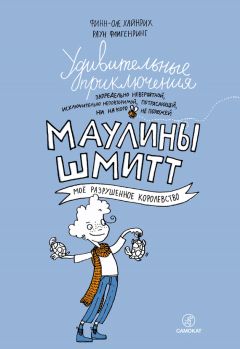Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«Дали водки, целовали…»
Дали водки, целовали,
обнимали, сбили с ног.
Провожая, не пускали,
подарили мне цветок.
Закурил и удалился
твердо, холодно, хотя
уходя остановился —
оглянуться, уходя.
О, как ярок свет в окошке
на десятом этаже.
Чьи-то губы и ладошки
на десятом этаже.
И пошел — с тоскою ясной
в полуночном серебре —
в лабиринт — с гвоздикой красной —
сам чудовище себе.
Элегия («Зимой под синими облаками…»)
Зимой под синими облаками
в санях идиотских дышу в ладони,
бормоча известное: «Эх вы, сани!
А кони, кони!»
Эх, за десять баксов к дому милой!
«Ну ты и придурок», — скажет Киса.
Будет ей что вспомнить над могилой
ее Бориса.
Слева и справа — грустным планом
шестнадцатиэтажки. «А-ну, парень,
погоняй лошадок!» — «А куда нам
спешить, барин?»
«Начинается снег, и навстречу движению снега…»
Начинается снег, и навстречу движению снега
поднимается вверх — допотопное слово — душа.
Всё — о жизни поэзии, о судьбе человека
больше думать не надо, присядь, закури не спеша.
Закурю, да на корточках, эдаким уркой отпетым
я покуда живой, не нужна мне твоя болтовня.
А когда после смерти я стану прекрасным поэтом,
для эпиграфа вот тебе строчки к статье про меня:
Снег идет и пройдет, и наполнится небо огнями.
Пусть на горы Урала опустятся эти огни.
Я прошел по касательной, но не вразрез с небесами,
в этой точке касания — песни и слезы мои.
«Сколько можно, старик, умиляться острожной…»
Сколько можно, старик, умиляться острожной
балалаечной нотой с железнодорожной?
Нагловатая трусость в глазах татарвы.
Многократно все это еще мне приснится:
колокольчики чая, лицо проводницы,
недоверчивое к обращенью на «Вы».
Прячет туфли под полку седой подполковник
да супруге подмигивает: — Уголовник!
Для чего выпускают их из конуры?
Не дослушаю шепота, выползу в тамбур.
На леса и поля надвигается траур.
Серебром в небесах расцветают миры.
Сколько жизней пропало с Москвы до Урала.
Не успею заметить в грязи самосвала,
залюбуюсь красавицей у фонаря
полустанка. Вдали полыхнут леспромхозы.
И подступят к гортани банальные слезы,
в утешение новую рифму даря.
Это осень и слякоть, и хочется плакать,
но уже без желания в теплую мякоть
одеяла уткнуться, без «стукнуться лбом».
А идти и идти никуда ниоткуда,
ожидая то смеха, то гнева, то чуда.
Ну, а как? Ты не мальчик! Да я не о том —
спит штабной подполковник на новой шинели.
Прихватить, что ли, туфли его, в самом деле?
Да в ларек за поллитру толкнуть. Да пойти
и пойти по дороге своей темно-синей
под звезда ми серебряными, по России,
документ о прописке сжимая в горсти.
Паровоз
С зарплаты рубль — на мыльные шары,
на пластилин, на то, что сердцу мило.
Чего там только не было, всё было,
все сны — да-да — советской детворы.
А мне был мил огромный паровоз —
он стоил чирик — черный и блестящий.
Мне грезилось: почти что настоящий!
Звезда и молот украшали нос.
Летящий среди дыма и огня
под злыми грозовыми облаками,
он снился мне. Не трогайте руками!
Не трогаю, оно — не для меня.
Купили бы мне этот паровоз,
теперь я знаю, попроси, заплачь я —
и жизнь моя сложилась бы иначе,
но почему-то не хватало слез.
Ну что ж, лети в серебряную даль,
вези других по золотой дороге.
Сидит безумный нищий на пороге
вокзала, продает свою печаль.
«Россия. Глухомань. Зима…»
Россия. Глухомань. Зима.
Но если не сходить с ума,
на кончике карандаша
уместится душа.
Я лягу спать. А ты пари
над бездною, как на пари,
пари, мой карандаш, уважь
меня, мой карандаш.
Шальную мысль мою лови.
Рисуй объект моей любви
в прозрачном платье, босиком,
на берегу морском.
У моря, на границе сна
она стоит всегда одна.
И море синее шумит,
в башке моей шумит.
И рифмы сладкие живут,
и строчки синие бегут
морским подобные волнам,
бегут к ее ногам.
«Не знавал я такого мороза…»
Нижневартовск, Тюмень и Сургут.
О. Д.
Не знавал я такого мороза,
хоть мороз во России жесток.
Дилер педи— и туберкулеза
из контейнера вынул сапог.
А, Б, В — ПТУ на задворках.
На задворках того ПТУ,
до пупа в идиотских наколках,
с корешами играет в лапту.
Научается двигать ушами.
Г, Д, Е — начинается суд.
Ж, З, И — разлучив с корешами,
в эшелоне под Ивдель[63] везут.
Я и сам пошмонался изрядно
по задворкам отчизны родной.
Там не очень тепло и опрятно,
но страшней воротиться домой.
Он приходит к себе на квартиру,
мусора его гонят взашей.
Да подруга ушла к инженеру.
Да уряхали всех корешей.
Так чего ты томишься, бродяга,
или нас с тобой больше не ждут
лес дремучий, скрипучая драга,
Нижневартовск, Тюмень и Сургут?
Или нас, дорогой, не забыли —
обязали беречь и любить,
сторожить пустыри и могилы,
по помойкам говно ворошить?
Если так, отыщи ему пару.
Да шагай по великой зиме,
чтобы не помянуть стеклотару —
тлен и прах в переметной суме.
Заночуй этой ночью на тепло —
магистрали, приснится тебе,
что душа твоя в муках окрепла
и архангел гудит на трубе.
Серп и молот на выцветших флагах.
солдатня приручила волчат.
Одичалые люди в телагах
по лесам топорами стучат.
Памяти Полонского
Олегу Дозморову
Мы здорово отстали от полка. Кавказ в доспехах,
словно витязь. Шурует дождь. Вокруг ни огонька.
Поручик Дозморов, держитесь! Так мой денщик загнулся,
говоря: где наша, э, не пропадала. Так в добрый путь!
За Бога и царя. За однодума-генерала. За грозный ямб.
За трепетный пеон. За утонченную цезуру. За русский
флаг. Однако, что за тон? За ту коломенскую дуру. За
Жомини[64], но все-таки успех на всех приемах и мазурках.
За статский чин, поручик, и за всех блядей Москвы и
Петербурга. За к непокою, мирному вполне, батального
покоя примесь. За пакостей литературных — вне. Поручик Дозморов,
держитесь! И будет день. И будет бивуак. В сухие кители
одеты, мы трубочки раскурим натощак, вертя пижонские кисеты.
А если выйдет вовсе и не так? Кручу-верчу стихотвореньем.
Боюсь, что вот накаркаю — дурак. Но следую за вдохновеньем.
У коней наших вырастут крыла. И воспарят они над бездной.
Вот наша жизнь, которая была невероятной и чудесной.
Свердловск, набитый ласковым ворьем и туповатыми ментами.
Гнилая Пермь. Исетский водоем. Нижне-Исетское[65] с цветами.
Но разве не кружилась голова у девушек всего Урала,
когда вот так беседовали два изящных армий генерала?
С чиновников порой слетала спесь. И то отмечу,
как иные авангардисты отдавали честь нам, как солдаты рядовые.
Мне все казалось: пустяки, игра. Но лишь к утру смыкаю веки.
За окнами блистают до утра Кавказа снежные доспехи.
Два всадника с тенями на восток. Все тверже шаг.
Тропа все круче. Я говорю, чеканя каждый слог: черт побери,
держись, поручик! Сокрыл туман последнюю звезду. Из мрака
бездна вырастает. Храпят гнедые, чуя пустоту. И ветер
ментики срывает. И сердце набирает высоту.
«Осенние сумерки злые…»