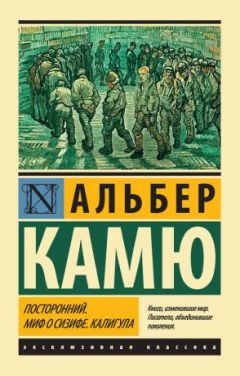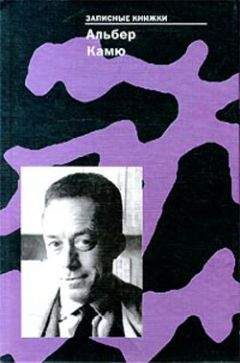Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Наташа пожала плечами, отвернулась к стенке. Ося закрыла глаза, подавляя раздражение, было обидно и непонятно, как может неглупый образованный человек так бояться правды.
– Знаешь, – вдруг сказала Наташа, – у меня следователь очень интеллигентный был, очень хорошо ко мне относился, разговаривал с уважением. И вот он мне на втором или третьем допросе и говорит, что ему, в сущности, всё равно, кого допрашивать, из кого показания выбивать, из меня или из кого-нибудь другого. Если решили, что человек виновен, он виновен, а кто это подтвердит и как, не суть важно. Так что, говорит, наборщик этот ваш всё равно обречён, а вот у вас ещё есть выбор. Зачем вам губить себя, сестру ради обречённого человека.
– И ты согласилась?
– Я сделала свой выбор. Наборщика всё равно бы расстреляли, это ясно и без следователя, так почему я должна жертвовать своей семнадцатилетней сестрой во имя другого человека? Почему его жизнь важнее, чем её?
– У наборщика тоже есть сестра, и мать, и жена, и дети.
– Оля, ты не понимаешь, его всё равно бы расстреляли.
– Если бы никто не подписал, то не расстреляли бы.
– Но ведь подписали же, и всегда будет кто-нибудь, кто подпишет.
– В том числе и ты.
– Да, если тебе угодно, в том числе и я. И не смей судить меня. Тебе просто повезло, что ты одна на белом свете… – выкрикнула Наташа и осеклась.
– Да, мне очень повезло, – ровно сказала Ося.
Три дня они не разговаривали, потом заспорили снова.
Спорить с Наташей было легко. Попытки ответить на свои собственные вопросы давались ей куда труднее. Невозможно было поверить, что сотни женщин, спящих вповалку на барачных нарах, оторваны от дома, от семьи, от работы, от нормальной человеческой жизни по чьей-то злой прихоти. Но поверить в то, что тихая, вечно испуганная старушка Тамара Васильевна Бруде, в жизни не выезжавшая из своего Тихвина, – немецкий шпион, а весёлая разбитная Танька Парфёнова, ткачиха с «Красного ткача», – член контрреволюционной террористической группы, готовившей убийство Кагановича [44], было ещё труднее. Если же не верить, то снова с неизбежностью возникал вопрос «почему?», и единственным разумным ответом на этот вопрос оставалось шафировское «разделяй и властвуй». Тогда исчезала всякая разница между одним усатым человеком в погонах, уверенным, что он помазанник Божий, и другим усатым человеком в погонах, уверенным, что он отец народов. Оба считали себя обладателями исключительного права на истину, оба делили свой народ на части, позволяя одной беспредельно управлять другой. Разным оставался только способ деления, согласно которому всё, что было хорошо для первого, было плохо для второго.
Ей отчаянно хотелось поговорить с кем-нибудь, услышать другие объяснения, другие ответы, хотя бы другие вопросы. После двух серьёзных ссор Наташа таких разговоров всячески избегала, и Ося всё чаще с тоской и благодарностью вспоминала Шафир. Каждый вечер в надежде услышать что-нибудь интересное она обходила весь барак, осторожно пристраивалась то к одной, то к другой группе, готовая в любую секунду встать и уйти или убежать, если уголовницы начнут свои разборки. Недостатка в разговорах не было, они не прекращались даже ночью, но говорили больше об оставшихся дома семьях, о том, что ждёт их в лагере, хорошо это или плохо, что их так долго держат на пересылке. Много говорили о еде, собрался целый кружок любительниц рассказывать, что и когда им довелось приготовить или попробовать. В другом кружке пересказывали романы, уголовницы слушали, как дети, раскрыв глаза и рты, то про несчастного Дантеса, то про не менее несчастную Каренину. Всё это было не то, не то, не то.
Через месяц скучной, голодной и холодной пересыльной жизни на вечерней поверке, после дежурных фраз о том, как важно для врагов народа осознавать и перековываться, начальник пересылки вызвал добровольцев перебирать овощи. Таковых не нашлось: в овощном подвале стоял невыносимый холод и такая вонь, что никакая дополнительная еда сутки не лезла в глотку. Начальник пошёл вдоль строя, равнодушно ткнул пальцем: «Ты, ты и ты». В десяток отобранных попала и Ося. Наташа предложила поменяться с кем-нибудь за пайку, Ося отказалась. Отказалась она и просить у кого-нибудь обувь и одежду потеплее и десять часов просидела в вонючем подвале в своём демисезонном пальтеце и рваных ботиночках, не ощущая ног и с трудом двигая закоченевшими руками. Утром следующего дня она не смогла встать. Испуганная Наташа, весь вечер повторявшая: «Говорила же я тебе», – сообщила дневальной, та вызвала медсестру. Медсестра потрогала пылающий Осин лоб, сказала: «Простуда», – вытряхнула Осе на ладонь таблетку из здоровенной банки и ушла. На поверку Осю вывели под руки Наташа и Танька Парфёнова. Начальник долго и скучно рассуждал про грядущий праздник 23 Февраля, потом спросил: «Художники есть?» Наташа вытолкнула вперёд Осю, крикнула громко: «Вот художник!» Лишившись опоры, Ося рухнула на снег, начальник, подошедший поближе, спросил брезгливо:
– Эт-то что?
– Разрешите обратиться, гражданин начальник, – быстро сказала Наташа. – Это Ярмошевская, 58–10, она очень хороший художник, она с Маяковским работала. Она простыла вчера, когда овощи перебирала, но она выздоровеет, она вам очень красиво нарисует.
Начальник тронул сапогом лежащую Осю, цыкнул зубом и приказал: «В больничку её. И чтобы в два дня здорова была».
3
Открыв глаза, Ося увидела лысину, бледную веснушчатую лысину с трогательным венчиком редких рыжеватых волос вокруг макушки. Смотреть на лысину было неприятно, и Ося закрыла глаза. Когда она открыла их снова, круглый, выпуклый, бледно-голубой глаз очень близко, почти вплотную разглядывал Осю, потом отодвинулся, и высокий весёлый голос возвестил:
– Всё-таки молодость – удивительная штука.
Ося осторожно покосилась в сторону голоса. На соседней кровати сидел толстячок в белом халате, болтал короткими, едва достающими до пола ногами и приветливо улыбался. Заметив, что Ося на него смотрит, он взял её за руку и принялся считать пульс.
– Сколько? – хрипло спросила Ося.
– Немного частит, но наполнение хорошее, – бодро объявил толстяк.
– Сколько дней?
– Ах, вот вас что интересует. Третьи сутки пошли, милая моя, третьи сутки, как вы тут у нас, как говорит здешняя публика, кантуетесь. Тяжелейшая простуда, я боялся, как бы воспаление лёгких не началось, но, как я вам уже говорил, молодость творит чудеса. Будь вы лет на двадцать постарше, не знаю, чем бы это кончилось.
Ося попыталась сесть, толстяк удержал её, сказал строго:
– Не торопиться. Вам, моя милая, совершенно некуда торопиться. Лежите, отдыхайте. Не знаю, как в вашей прежней жизни, но в нынешней отдыхать вам придётся нечасто.
Он укрыл Осю и ушёл. Ося подремала ещё немножко, потом села, натянув одеяло до плеч, осмотрелась. Небольшая комната с низким потолком была забита кроватями – пять в ряд, почти вплотную, и ещё пять с другой стороны, после узкого прохода. Все койки были заняты, и в палате стояла та неприятная больничная тишина, при которой хрипы, кашель, стоны уже не воспринимаются как отдельные звуки, а становятся частью фона, частью тишины. Сырой, неприятный запах пота, карболки и крови пронизывал воздух.
– Беса гонишь или так мастыришь? – спросила женщина с соседней кровати.
– Я простудилась. Овощи перебирала, – объяснила Ося.
– Лошадь, – констатировала женщина и отвернулась, потеряв к Осе всякий интерес.
Принесли обед – горячую жидкую баланду из плохо промытой сечки [45]. Песок скрипел на зубах, но Ося ела с удовольствием, в палате было холодно, еда согревала. Женщины зашевелились, те, кто мог, сели на койках, застучали ложками. Тех, кто не смог подняться, кормили соседки. После обеда Ося опять заснула. Разбудил её всё тот же толстяк, велел одеваться и идти в амбулаторную ставить банки. Ося послушно натянула серый, сильно пахнущий дезинфекцией халат и пошла вслед за ним, держась за кровати, чтобы не упасть. В амбулаторной он уложил Осю на деревянный топчан, быстро и ловко поставил банки, сел рядом на грубо сколоченный табурет и спросил: