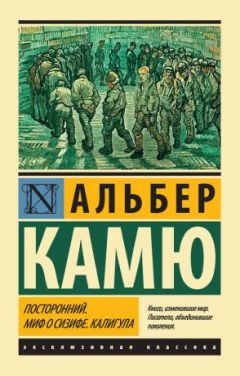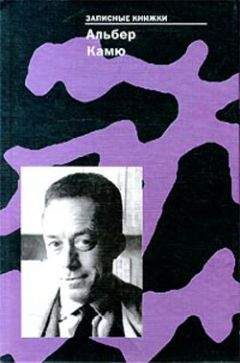Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Приканали! – крикнула одна из уголовниц.
Конвойные отодвинули решётки, женщины потянулись к выходу. Ося спрыгнула на землю, вдохнула свежий, чистый воздух, настолько чистый после шести дней вагонной скученности, что хотелось пить его, как воду. Рядом с ней женщины падали на колени, хватали горстями ноздреватый, покрытый серым налётом снег, жадно глотали его. Конвойные ругались, пинками поднимали их, выстраивали колонну по пять в ряд, пересчитывали. Ося встала в строй, посмотрела поверх голов на прозрачное северное небо, на высокую строгую стену леса, уходящую за горизонт. Люди бегали, суетились, кричали, а лес стоял спокойно и безмолвно, посматривал неодобрительно с высоты, словно удивлялся, на что тратят эти странные существа свой короткий век.
Из первого вагона вынесли длинные рогожные мешки, штабелями сложили на снег.
– Отмучились, касатки, – сказала стоявшая рядом старуха и перекрестилась. Ося закусила губу, заставила себя не отворачиваться, сосчитала. Сорок восемь мешков. Сорок восемь человек.
Колонна тронулась, потащилась, хромая и падая, по широкому снежному тракту. Конвойные с собаками шли по бокам, поверх высоких снежных брустверов, иногда спускались, подталкивали прикладами отстающих. Брустверы укрывали от ветра, они же отгораживали от мира, и, когда Ося вглядывалась вперёд или поворачивалась назад, она видела только бесконечную человеческую реку, медленно текущую неизвестно куда меж высоких снежных берегов.
Через полчаса слабые начали отставать. Пожилая женщина-археолог из Осиного купе упала раз, два, на третий не смогла встать. Собака подскочила, зарычала, женщина закричала по-детски высоко и беспомощно. Ося протиснулась назад, помогла ей подняться. Женщина часто, мелко закивала, вцепилась в Осину руку, и Ося так и осталась в этом чужом ряду.
Спустя два часа дорога резко свернула направо, и они увидели зону. Тракт упирался в огромные, обитые жестью ворота, от ворот в обе стороны уходил высокий, в два роста, бревенчатый частокол, увитый поверху колючей проволокой. Над частоколом тянулась пунктирная нить сторожевых вышек.
Колонна остановилась. Лейтенант ушёл внутрь через маленькую калитку рядом с воротами, вернулся только через полчаса, сытый, довольный, розовый, приказал, по-мальчишески наслаждаясь возможностью приказывать: «По пятёркам заходи». Два солдата подняли тяжёлую перекладину, с трудом раздвинули ворота, и первый ряд шагнул в зону, где уже стояла местная охрана в готовности приступить к очередному шмону.
После шмона их повели в баню, холодную и грязную, где каждой выдали по ушату воды, а одежду забрали на прожарку, и долго ещё дожидались они своей одежды, сидя голышом в холодном предбаннике. В дощатом бараке, затянутом брезентом, было теплее, в самом центре в раскалённой железной бочке полыхал ровный огонь, рядом полуголые уголовницы резались в карты. Но до покрытых инеем барачных углов тепло не доходило, и женщины на ближайших к двери нарах сидели укутанные, как капуста.
– Котлас, – тихо сказал кто-то рядом с Осей. – Пересылка.
Её никто не слушал, все кинулись занимать лучшие места. После купейной скученности и ледяной бани барак казался дворцом. Наташа залезла на самый верх, Ося пристроилась рядом, оглядела с высоты приземистый длинный барак, грубо сколоченные трёхэтажные нары от стены до стены, узкий проход между ними, огромный лозунг «Борись за чистоту» над входом. Вечером раздали хлеб и принесли кипяток, утром выдали первую за неделю горячую еду – суп из крупно нарезанной свёклы и селёдки с потрохами. Ося суп есть не стала, отдала соседке слева, Наташа съела, сказала грустно: «Надо сразу привыкать».
К бараку прилегал дворик, окружённый таким же бревенчатым частоколом, местами прогнившим. Сквозь дыры можно было разглядеть соседний мужской барак, такой же низкий и длинный. На дворик выпускали свободно, там Ося и проводила большую часть времени, наслаждаясь недоступной в тюрьме и в вагоне роскошью – тишиной. Иногда к забору подходили с мужской стороны, окликали её, она тут же выпаливала свой главный, единственный вопрос: «Тарновский Ян Витольдович, из Ленинграда, художник, не встречали?» Никто не встречал.
Часа в три пополудни начинались ранние и долгие северные закаты. Небо покрывалось то кружевными узорами, то длинными ровными полосами, и Ося до темноты кружила по дворику, пытаясь удержать в памяти, сохранить эти фантастические переходы и переливы, тончайшие оттенки всевозможных цветов, которым даже названия не было в языке. Часам к пяти солнце уходило так низко, что багровели верхушки леса, со всех сторон окружавшего пересылку, а снег становился золотисто-розовым, неземным. Солнце пряталось за горизонт, закатное небо уползало вниз, вслед за солнцем, постоянно сужающейся и бледнеющей полосой. Ося возвращалась в барак, залезала на свою верхнюю полку, съедала сбережённый с обеда хлеб, ощущая себя прозрачной, невесомой, несуществующей, словно жизнь длилась, только пока длился закат.
Работать в пересылке не заставляли: на ту немногую работу, которая требовалась, – заготовить дрова, разгрести снег, почистить овощи, – всегда находились желающие, кто-то от тоски ничегонеделания, кто-то в надежде поживиться какой-никакой едой. Как-то пришёл начальник КВЧ [43], спросил, нет ли художников. Ося промолчала, и Наташа долго её ругала. «Я не умею рисовать Днепрострой», – оправдываясь, сказала Ося, но когда увидела у женщины, вызвавшейся нарисовать плакат, целую кипу чистых с одной стороны листов и новый неотточенный карандаш, то решила в следующий раз не отказываться.
Большую часть времени она думала, так усиленно, сосредоточенно, что к вечеру голова начинала гудеть, как гудят ноги после долгого пути. Думала, вспоминала читанное, виденное, слышанное. Всё годилось в её топку: разговоры в техникуме и на фабрике, споры у Филонова, страстные речи Коли Аржанова на коммунальной кухне, монологи Раисы Михайловны, приземлённая мудрость соседки, даже рассуждения следователя. Вспоминала, обдумывала, раскладывала по полочкам в надежде, что если собрать все куски воедино, то проявится скрытая доселе картина, найдётся ответ на вопрос «почему?». Наташу эти поиски раздражали так же, как Осю раздражала печальная Наташина уверенность, что лес рубят – щепки летят и им просто не повезло, они попали в щепки.
– В конце концов, можно и не рубить, а пилить, – разозлившись, как-то сказала Ося.
– Рубить быстрее, – засмеялась Наташа.
– А куда спешить? – спросила Ося. – Кто сказал, что дорога к всеобщему счастью должна быть прямой, как стрела, и без остановок? Почему непременно нужно делать пятилетку в четыре года? Что будет, если сделать её в пять? Меньше людей умрёт от голода и непосильного труда? Меньше людей посадят за вредительство? А может, просто меньше начальников получат орден и звание? И кое-кто не будет чувствовать себя таким великим?
– Зато наши дети будут жить лучше, – неуверенно возразила Наташа. – Или внуки.
– Этот Юрочка, которого твоя соседка снизу каждую ночь во сне зовёт, будет очень счастлив, когда вырастет, от того, что Беломорканал построили за полтора года? Мне кажется, он был бы счастливее, если бы не рос сиротой при живых родителях.
Наташа не ответила, Ося тоже замолчала, но выговориться хотелось, разговор освобождал голову и душу для новых мыслей, и она начала снова:
– А приговоры? Почему тебе дали пять плюс три, а мне десять плюс пять? Почему старухе Трофимовой, которая колхозы ругательски ругает, дали три года, а такой же старухе Бруде, которая рот раскрыть боится, дали пять? У меня такое ощущение, что судьи кости кидают. Каждый кинул по кубику, сколько вместе выпало, столько и дали. Поэтому и не дают меньше трёх.
– Но есть же настоящие враги, – рассердилась Наташа.
– Твой наборщик, например, да? Ты же сама рассказывала, он признал себя японским шпионом.